Прыжок в высоту. Сталинским высоткам — 65 лет
Высотные здания Москвы как творения архитектуры четвертого измерения
Константин Михайлов
Высотные здания Москвы 1940-1950-х поистине загадочны, хотя всем известны и привычны с детства. Во-первых, они вопиюще не функциональны. Их архитектурный образ никак не связан ни с предназначением каждого из этих зданий, ни со значением того, что в них помещалось, для города и страны.
Зачем университету находиться в небоскребе? Зачем жилым домам шпили, башни и статуи? Неужели МИД и МПС были для сталинского СССР самыми важными министерствами? Были ли «Ленинградская» и «Украина» самыми значимыми из всех столичных гостиниц? На эти вопросы нет рациональных ответов.
Во-вторых, высотки противоречивы с точки зрения стиля. Они откровенно схожи со своими американскими прототипами. Они неприкрыто цитируют детали и фирменные аксессуары древнерусской и готической архитектуры, не говоря уж об «ар-деко» и сталинской «классике». Но при этом высотки не производят впечатления эклектических построек. Они кажутся (а применительно к архитектуре это равносильно слову «являются») стильными зданиями. Более того, они сами создают стиль и зрительный образ целой эпохи.
Николай Гоголь о советской архитектуре
Точнее многих профессиональных критиков и искусствоведов о смысле высотных зданий Москвы сказал в 1831 году Николай Гоголь. Гоголь был мистик и провидец, поэтому лицезреть воочию творения Гельфрейха, Минкуса и Руднева ему было не обязательно. Послушаем Гоголя: «Башни огромные, колоссальные необходимы в городе… Кроме того, что они составляют вид и украшение, они нужны для сообщения городу резких примет, чтобы служить маяком, указывавшим бы путь всякому, не допуская сбиться с пути. Они еще более нужны в столицах для наблюдения над окрестностями».
«Строение должно неизмеримо возвышаться почти над головою зрителя, — продолжает Гоголь, — чтобы он стал, пораженный внезапным удивлением, едва будучи в состоянии окинуть глазами его вершину. И потому строение всегда лучше, если стоит на тесной площади. К нему может идти улица, показывающая его в перспективе, издали, но оно должно иметь поражающее величие вблизи. Чтобы дорога проходила мимо его! Чтобы кареты гремели у самого его подножия! Чтобы люди лепились под ним и своею малостью увеличивали его величие! Дайте человеку большое расстояние — и он уже будет глядеть выше, гордо на находящиеся пред ним предметы; ему покажется все малым».
Все вышли из шинели Палладио
Реальная, не бумажная, архитектура страны Советов 1920-1930-х годов была подчеркнуто горизонтальной. Конструктивистами руководила идеология функционализма – рабочим клубам и «машинам для жилья» не требовалось башен. Колокольни в антирелигиозной стране вышли из употребления. «Пролетарская классика» и «сталинский классицизм» также вышли из разных рукавов одной и той же шинели Андреа Палладио, наследовали архитектуре Возрождения, пронизанной идеалами гармонии и упорядоченности мира. Башни и высотные здания – это элемент дисгармонии. Они разрывают городскую ткань, прорывают линию городского горизонта, нарушают сложившийся архитектурный «порядок».
Поэтому, например, на улице Горького – единственной городской магистрали, целиком (до Садового кольца) застроенной в духе идей сталинского Генерального плана Москвы 1935 года – нет никаких башен. Есть мерные ритмы, гигантские арки, единые линии фасадов и карнизов. Это величественный порядок нового города, который, казалось, уже никому и ничему не позволено будет нарушить. В том же духе проектировались и частично застраивались остальные магистрали «столицы мирового коммунизма» (проспект Мира, Ленинский проспект, Кутузовский проспект).
И вдруг этот циклопический порядок нарушается в 1940-е годы строительством московских высоток.
Чтобы понять причину неожиданного отступления от правил, нужно вглядеться в исключения.
Отступления от генеральной линии
Исключений в советской архитектуре первых двух десятилетий было по большому счету два, и оба остались нереализованными проектами. Это башня Татлина и Дворец Советов, которые изначально задумывались как «башни огромные, колоссальные». Благодаря почти сакральному символизму замысла, они были откровенно нефункциональны, их предназначение заключалось в них же самих. Башня и Дворец должны были послужить зримыми символами официальных святынь советского массового сознания.
Башня Татлина проектируется как воплощение идей Третьего Интернационала. Дворец Советов – как постамент гигантского памятника Ленину и одновременно — как демонстрация сил и возможностей страны победившего социализма.
Идею постройки такого дворца выдвинул еще 31 декабря 1922 года на съезде Советов, провозгласившем создание СССР, Сергей Киров: «Покажем нашим друзьям и недругам, что мы, «полуазиаты»… способны украшать грешную землю такими памятниками, которые нашим врагам и не снились».
Во второй половине 1930-х годов, когда строительство основ социализма в СССР стало официально считаться законченным, покончено было и с приземленным функционализмом ранней советской архитектуры. Эпоха требовала монументального самовыражения, и Сталин прекрасно понимал, что архитектура – не просто «застывшая музыка», но и увековеченная в камне политика. Постановление Совнаркома о Генеральном плане Москвы (1935) прямо ставило перед зодчими «социалистического города» задачу выражения величия эпохи. А величие требовало возрождения «вертикальной» архитектуры, пронизанной духом символизма.
Забытый предшественник
Здесь самое время вспомнить о художнике и архитекторе Лазаре (Эле) Лисицком, который еще в середине 1920-х годов предложил проект системного ансамбля московских небоскребов. Статья Лисицкого, опубликованная в 1926-м, так и называлась – «Серия небоскребов для Москвы».
Этот проект не был реализован, но его можно считать прямым предшественником московских высоток послевоенной эпохи. Лисицкий предлагал соорудить именно восемь (случайное ли это совпадение с числом высоток, считая зарядьевскую?) небоскребов, расположив их вдоль Бульварного кольца. Послевоенные высотки в основном «привязаны» к Садовому кольцу, куда к тому времени отодвинулась граница «репрезентативного» городского центра. С точки зрения архитектурного символизма небоскребы Лисицкого, конечно, для выражения величия эпохи пригодны не были (сам архитектор сравнивал их с утюгами), они решали функциональные задачи получения большой площади и кубатуры при сравнительно небольшом участке застройки.
О чем говорят цитаты из Василия Блаженного
Реально время для выражения величия наступило во второй половине 1940-х годов, и это далеко не случайно. «Величие эпохи» конца 1930-х существовало в массовом сознании, но не в массовой биографии советских людей. Повторяя официальные лозунги, они не ощущали этого величия на личном опыте. Страна строила социализм, а они вели обычную жизнь: работали на заводах, учились в институтах, женились, воспитывали детей. И только Великая Отечественная война, так или иначе затронувшая каждую советскую семью, заставила каждого гражданина прочувствовать и пережить величие эпохи на собственном опыте. Страдания, лишения, тревоги, разлуки, смерть близких – и, наконец, Победа, ощущаемая как всеобщее достижение и всеобщее достояние, Победа, сплотившая разобщенную «классовой борьбой» нацию – вот подлинный фундамент московских высотных зданий.
Очень важно понять и оценить подлинный пафос сталинских высоток. Мне кажется, что ни в коем случае нельзя недооценивать значение тех «древнерусских» архитектурных деталей, которыми усеяны их фасады. Буквальные цитаты из убранства храма Василия Блаженного на Красной площади (кстати говоря, также мемориала военной победы) – не прихоть архитекторов. Это свидетельство сознательной «русификации» парадной государственной архитектуры. Причем инициатива исходит не от зодчих, а от власти, которая в буквальном смысле слова навязывает архитекторам образный строй древнерусских памятников (вспомним многочисленные рассказы о том, как Сталин велел увенчать шатром высотное здание МИДа).
Официальная архитектура Москвы 1920-1930-х, «столицы мирового коммунизма» и Третьего Интернационала, подчеркнуто и сознательно вненациональна. Более того, в довоенной Москве делают все возможное, чтобы истребить в облике города «национальный колорит»: взрывают храм Христа Спасителя, сносят сотни церквей и колоколен. Никакие «нарышкинские» наличники и шатры в постройках советских зодчих того времени немыслимо и представить.
Четвертое измерение архитектуры
Нетрудно заметить, что попытка возвращения архитектуры в русло национальной традиции находит соответствие в целой системе начатых еще перед войной государственных мероприятий по возвращению в это же русло всего остального. Русскую историю начинают вновь преподавать в школах. Александр Невский, Минин, Пожарский и Сусанин вновь становятся положительными историческими персонажами. Войну 1812 года перестают трактовать как схватку французских капиталистов с русскими феодалами. Уцелевшие церковные иерархи собираются по лагерям, избирают Патриарха, открываются храмы и монастыри. Заканчивая войну, Сталин поднимает тост за русский народ. Само слово «русский» восстанавливается в правах и из обвинительных приговоров по делам «монархистов» и «националистов» перекочевывает в газеты и литературу. И так во всем – вплоть до возвращения погон на армейские гимнастерки и открытия кадетских корпусов под вывеской суворовских училищ.
Могла ли архитектура быть исключением? Стоит ли после этого удивляться, что каждая из московских высоток демонстративно воспроизводит образный строй целого древнерусского города – с центральной главной башней-вертикалью, соподчиненными ей башенками на крыльях и боковых корпусах? Стоит ли напоминать, что средневековая русская архитектура была, во-первых, глубоко сакрально-символичной по замыслу зданий-мемориалов и оттого, во-вторых, «вертикальной», отмечавшей значимые события именно башнеобразными постройками, выделявшимися из общего ряда (церковь Вознесения в Коломенском, храм Василия Блаженного, Сухарева башня и т.п. – примеров несть числа)?
Московские высотки стали символом национального возрождения – и послевоенного, и в более широком смысле слова. Это была архитектура четвертого измерения, которая к трем обычным добавила Время.
Именно в этом их смысловом наполнении следует искать истоки ключевого требования к проектированию высоток, сформулированного в подписанном Сталиным в 1947 году постановлении Совета Министров СССР № 53 «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий»: их соответствие историческому стилю московской архитектуры. Заметим, что когда тогдашнее Главное управление охраны памятников архитектуры Москвы негативно расценило намерения построить многоэтажные здания в непосредственной близости от Кремля, от него просто отмахнулись. Власти интересовало не судьба реальной исторической Москвы, а соответствие новостроек национальной традиции. Два других требования — связь высотных зданий с пирамидально-башенным силуэтом будущего Дворца Советов и принципиальное отличие от заграничных небоскребов – вполне укладываются в русло той же традиции.
И еще заметим: в тот единственный раз, когда русская архитектура попыталась в ХХ веке вернуться к своим историческим композиционно-образным истокам, ей удалось создать действительно величественный и художественный ансамбль, получивший общественное признание, до сих пор попросту любимый обычными гражданами. Вот этому явлению аналогов в истории отечественного зодчества после 1917 года нет и не предвидится.
В тринадцать ноль-ноль после войны
И это обстоятельство далеко не случайно и связано не только с архитектурными качествами высоток. Их строительство воспринималось гражданами не просто как очередная инициатива властей. Сооружение высоток понималось как общее, общественное, а не только государственное дело. Закладка высотных зданий Москвы в 1947 году была обставлена так символически, как это происходило в средние века с городскими соборами – торжественно, всем миром, с речами и митингами, с прямым указанием на историческую традицию.
Все восемь московских высоток были заложены в один и тот же день (в день 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года) и, более того, в один и тот же час, в тринадцать ноль-ноль по московскому времени. А ровно за час до этого, в полдень, на Советской площади состоялась закладка памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому.
«Вся душа советской страны проходит перед нами в течение этого часа: далекое прошлое Руси, воин на коне, в шлеме и кольчуге, указывающий рукою вниз: «Здесь быть Москве», — и гигантские, многоэтажные дома, построенные по последнему слову техники для людей социалистического общества, для строителей коммунизма, для новых людей», — подчеркивал журнал «Огонек». У жителей столицы не могло не возникнуть ощущение, что в этот день все они, отпраздновав 800-летие заложения Москвы Юрием Долгоруким, вместе участвовали в заложении основ следующего периода ее истории. И в этом они отнюдь не заблуждались.
Можно вспомнить еще о и семи легендарных московских холмах, на которых оказались семь построенных высоток.
Американский парадокс
В символичности и исторической преемственности, которую олицетворяют московские высотки, кроется и разгадка последнего их парадокса, связывающего их «национальный» облик и несомненное заокеанское происхождение. Разгадка эта содержится в мыслях, казалось бы, весьма далекого от небоскребов художника и историка искусства Игоря Грабаря.
В 1924 году Грабарь провел несколько месяцев в Нью-Йорке и, вернувшись в СССР, изложил свои впечатления от американской архитектуры в статье «В стране небоскребов», опубликованной журналом «Красная Нива». «Американская архитектура, — писал Грабарь, — пока единственная в мире – сбросила с себя вековое иго «фасада», научившись архитектурно мыслить и чувствовать массами, только сейчас мы впервые видим наконец-то рождение новой современной архитектуры». Грабарь со свойственным ему тонким чутьем искусствоведа увидел связь небоскребов со средневековой архитектурной традицией: «Башенный тип построек, естественно, направил внимание архитекторов на знаменитые европейские готические соборы. Самый высокий из нью-йоркских небоскребов – «Вульворт» («Эмпайр стейт билдинг» еще не был построен – К.М.) – выдержан весь в свободных готических формах».
Историческую преемственность Грабарь усмотрел и в механизме проектирования американских небоскребов, где личность архитектора растворялась в «организованных огромных строительных конторах»: «Американские постройки не имеют автора или, по меньшей мере, имеют их с дюжину…Несмотря на всю пропасть, отделяющую наши дни от времен ассирийских, египетских или эллинских храмов, современные небоскребы имеют с ними то общее, что они безыменны, как и те. Понадобились тысячелетия, чтобы мы вновь пережили эпоху самого коллективного творчества в архитектуре!» Это сказано как будто про московские высотки, которые проектировались разными архитекторами, но общий стиль кажется принадлежащим одному зодчему (некоторых исследователей это сходство даже наводит на мысль, что этим зодчим был сам Сталин).
Как бы то ни было, американский опыт на российской почве оказался наполнен собственными смыслами и синтезирован в «самобытные» формы высотных зданий. Собственно, этим русская архитектура успешно занималась на протяжении столетий, и без исторической преемственности не обошлось и тут.
P.S. Когда в 1990-е годы московские архитекторы начали проектировать, а инвесторы – строить знания в «сталинском стиле», расхожее объяснение этого феномена было таковым: мол, это тонкий расчет на психологию заказчиков. Они запомнили из детства, что жить в высотке очень престижно и практически недостижимо. А теперь захотят реализовать свою мечту.
Может быть, и так. А может быть, дело было в ностальгии по атмосфере неповторимого уже городского ансамбля, принадлежащего всем москвичам, а не только обладателям элитных квартир? То есть по пресловутому «величию эпохи», не измеряемому стоимостью квадратного метра?






















 Записи
Записи


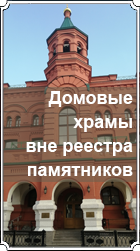


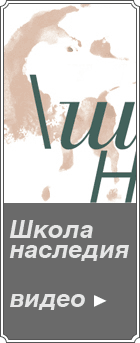



25 комментариев