Московский острый циркуль

Андрей Балдин
Из книги «Протяжение точки»
Книга номинирована на Национальную литературную премию «Большая книга»
То, что произошло с Москвой в 1812 году, невозможно рассмотреть и изложить в рамках одной темы. Одной точки зрения на это событие никогда не будет достаточно, как бы ни была она основательно и подробно аргументирована; это событие может быть представлено только в пересечении множества взглядов и суждений.
Извне, в контексте «пространственного» анализа, в этом множестве видится центральный, ключевой сюжет: это сюжет исчезновения-появления Москвы. Буквального и вслед за тем фигурального, смыслового. Москва исчезла в огне пожара и затем явилась заново, наяву и в особом помещении русского сознания, где она обнаружила себя новой духовной столицей России.
Она обозначила себя как центр нового материка, который вскоре принялся оформлять себя как материк слова. Тогда, в 1812 году, Москва обозначила себя как terra nova, «следующую землю», обнаружила в себе духовный пульс, слышимый от центра до арзамасских и донских границ.
Тут любые метафоры возможны, но вряд ли даже в своей сумме они передадут масштаб произошедшего.
Москва преобразилась целиком, внутренне и внешне; в результате она обрела статус сакрального центра не одной страны, не просто России, но одного из духовных полюсов Европы: масштаб произошедшей с ней метаморфозы значительно превосходил локальные национальные рамки. Исчезнувшая в огне Москва одновременно вернулась в Европу в качестве одного из ее ключевых (сакральных) центров. Пространство Старого Света, общий его чертеж заметно изменились с появлением в Европе послепожарной Москвы.
Прусский король Фридрих, чье государство в течение наполеоновских войн само несколько раз появлялось и исчезало, после окончательной победы над Бонапартом приехал в Москву; он застал на ее месте пепелище, постепенно восстающее к новой жизни. Король встал на колени и поклонился обгорелым руинам и то же приказал сделать сыновьям, которые были с ним. Смотрите, сказал он им, и помните: вот наша спасительница.
Ничто на месте города было для него святое место, положительно и прямо влияющее на все духовное пространство Европы.
*
На какой карте, в какой «географической» проекции можно уловить это исчезновение-появление Москвы?
Тогда явилась исследуемая нами «бумажная» страна, материк современного слова. Исчезновение-появление Москвы ясно указало, что у этой необыкновенной страны есть центр. Ко всему прочему, это было «оптическое» потрясение, факт самообнаружения старой-новой русской столицы: после гибели в огне и возрождения Москва увидела себя со стороны. Она осознала себя духовным центром новой страны, которой до 1812 года не существовало.
*
Этот язык задавал себе ключевые онтологические вопросы, заново озвучивал «фокусные» сюжеты гибели и спасения событийные, «вневременные» сюжеты и отвечал на эти вопросы литературою.
Если задуматься, первые опыты языкотворца Карамзина, жертва «Бедной Лизы», имеющая статус литературного события, были своего рода репетициями сюжета большего, куда более значительного большой московской жертвы 1812 года и, соответственно, вселенского, сакрального события. В настоящем контексте их можно трактовать как репетиции будущего языка, который после гибели и спасения Москвы в 1812 году стал языком настоящим.
Для этого, по мнению Карамзина, Москве не хватало рефлексии, желания самообозрения, смотрения на себя со стороны. Пожар 1812 года так ее осветил, что Москва наконец прозрела. Самосознание ее установилось единым огненным жестом.
Прозрение вышло жестокое; Москва была физически уничтожена; она исчезла, как будто от одного чуждого взгляда на нее извне. Могло ли это пройти бесследно для нового слова? Не могло, разумеется; после войны, после самосожжения Москва уже не могла просто вернуться к прежнему бытию и прежнему языку. Она увидела себя в новом свете (в огне пожара) и неизбежно заговорила иначе.
Заговорила о своей гибели и спасении: вот тема сокровенного, бытийного предела, озвучивая которую, поневоле заговоришь на новом, «запредельном» языке.
*
Вот идеальная площадка для Толстого: он в центре и одновременно на должном расстоянии во времени от совершившегося события. Он наблюдает Москву «в себе» и «вне себя». В результате его масштабной рефлексии мы получаем одну из самых интересных версий «оптического» и неизбежно грамматического преображения Москвы в 1812 году.
Все верно: Толстой самый чувствительный индикатор московских перемен. Мы наблюдали, как своими арзамасским и астаповским потрясениями он обозначил пределы московского «материка». Но прежде того он нашел его центр во времени и пространстве. Он обнаружил главнейший московский фокус: самосожжение, жертву Москвы 1812 года.
Интересно то, что Толстой предлагает нам только версию того, что произошло с Москвой; но она настолько масштабна и точна в своей всеобъемлющей реконструкции, что мы, особо не задумываясь, по умолчанию принимаем ее за правду. Мы, бумажноголовые воспоминатели, смотрим на события тех лет через волшебные очки, «магический кристалл» Толстого.
Точнее, через его текст: тот текст, который согласно замыслу Толстого призван заменить собой мир.
В этом Толстой был великий мастер в создании посредством слова гипнотически точной иллюзии мира, не просто равного миру настоящему, но превосходящего его по многим позициям. Позади страниц своих книг он поселяет иную, «правильную» московскую вселенную. И мы верим ему, живем сознанием в его вселенной, по ту сторону его страницы.
Это прямо относится к его описанию событий 1812 года: толстовский миф о них для нас важнее, целее, убедительнее, чем историческая правда (тем более что эта правда толком не собрана воедино, а существует фрагментами в общем рое толкований и версий).
*
«Оптические» приемы в описании Москвы у Толстого порой бывают неожиданны (но всегда в итоге оказываются убедительны для нас, читателей, жителей страны московского слова).
В данном случае мы можем указать на частные примеры; общая тема исследования «помещение слова», разворачивающееся между Карамзиным и Пушкиным; Толстой в этом контексте представляется сторонним наблюдателем.
Нет, все же не наблюдателем: в сравнении со статусом Карамзина, открывшего помещение нового слова (но не вошедшего в него наподобие библейского Моисея), Толстому необходимо присвоить статус окончательного оформителя помещения слова , «Моисея наоборот».
Тогда тем более достаточно указать на малые детали его романа-мифа, формообразующего (сознание) текста «Войны и мира», чтобы понять его архитектурный прием понять, как принципиально по-толстовски строится Москва в нашей памяти, в наших бумажных головах.

*
К примеру, во всей первой, довоенной части романа «Война и мир», где часто речь идет о Москве и действие надолго в ней задерживается, самой Москвы не видно. Нет описаний города, нет внешних его примет ни панорамы, ни домов, отдельно взятых, ни земли, ни неба, ни внешнего цвета. Все происходит где-то у Москвы за пазухой, в ее малых и тесных интерьерах, тайниках души.
Как-то раз я просмотрел всю «мирную» половину романа, первые два тома «Войны и мира» и нашел в них только два прямых упоминания о видимой довоенной Москве. Два незначительных, по сути случайных замечания, в которых хоть как-то упомянут московский экстерьер.
Это настолько показательно в отношении Толстого как неравнодушного наблюдателя пространства, переменителя миров, что оба примера стоит привести дословно.
Первое наблюдение: Николай Ростов в канун 1807 года едет из армии домой[43] известнейшая сцена рождественской встречи с домашними. Николай торопится, он весь в нетерпении; он хочет устроить домашним сюрприз, вернувшись домой на самое Рождество.
И начинаются оптические «фокусы». Ростов едет с Денисовым через Дорогомиловскую заставу (которая не упомянута, только сказано, что на ней были отмечены пропуска), через Москва-реку (нет реки), по Садовому кольцу на Поварскую (нет ни того, ни другого). Маршрут его «беспространствен», он только угадывается. Сам Ростов видит знакомые приметы но мы их не видим, только слышим, как он говорит Денисову про Захара с лошадью и про лавочку, где они когда-то покупали пряники. Все это только в голове Николая, это только мысли его, продиктованные понятным нетерпением о, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики.
Мне не нужны эти косвенные узнавания Николая, мне нужно, чтобы Толстой сам взглянул на Москву и сказал: в ней видно то-то заснеженная спящая застава, белая река с черными полыньями, узкие или широкие? улицы, нарядные дома. Где они?
Ничего не видно.
Наконец гости подъезжают к дому; над головой своей Ростов увидел знакомый карниз с отбитою штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб.
И все! Это все, что мы успеваем увидеть в Москве.
И даже тут Толстой не осмеливается прямо взглянуть на Москву: он смотрит на нее глазами Ростова и видит только то, что знакомо Ростову. Отбитую штукатурку и тротуарный столб. Как будто внешность Москвы заколдована и на нее нельзя смотреть прямо только «через зеркало», глазами героя.
И вторая «находка», не менее первой показательная: мы в самом конце «мирной» половины книги, читаем последний абзац последней главы[44], в которой Пьер Безухов навещает Наташу Ростову, только приходящую в себя после разрыва с князем Андреем. Пьер успокаивает ее, прощается, выходит на морозный воздух (мороз невидим, зато сказано, что в нем десять градусов), садится в сани и направляется домой. И вдруг опять, во второй раз с начала романа, является видимая Москва. Над грязными, полутемными переулками, над черными крышами стояло темное, звездное небо.
Все, дальше только про небо и комету!
Два обрывка из двух проходных фраз: это все, что упомянуто о видимой Москве. И каких обрывка! Карниз с отбитой штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб, грязные полутемные переулки и черные крыши. Все, более ни слова. Десять слов на восьмистах страницах! При этом в первом случае Толстой прячется за Ростова, смотрит его глазами, во второй раз, только зацепив взглядом черные крыши, тут же поднимает взор (Пьера) к звездному небу.
В следующей фразе как будто указана разгадка столь намеренного невидения Москвы Толстым. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. Вот в чем дело: душа его вознеслась после разговора с Наташей, когда, утешая ее, Пьер внезапно объяснился ей в любви. Вот что имеет своим основанием удивительное московское зрение Толстого, которое, оказывается, есть в Москве не просто зрение, но наблюдение души. Поэтому ничего нельзя прямо видеть в Москве: потому что так может быть повреждено ее «невидимое» зрелище как идеальное помещение души.
Это не значит, что Толстой как писатель не склонен к прямому изображению мира в слове. «Оптический» прием Толстого, его сокровенное наблюдение действует только в Москве; только на Москву нельзя смотреть прямо, чтобы не спугнуть полет души. Весь остальной мир Толстой способен разглядывать подробно, во всех деталях. Причем еще один удивительный закон толстовской «оптики» чем дальше действие от Москвы, тем яснее взгляд Толстого. Лучше всего видна заграница, австрийский поход русской армии. Батальные сцены зарубежных кампаний полны реальных описаний, они ярко зримы и, словно специально по контрасту с Москвой, прописаны во всех подробностях. Как будто слово за границей прочно привязано к предмету (тут опять вспоминается «оптик» Карамзин), в Москве же, мирной, довоенной, ему крепиться не к чему какое может быть крепление к душе?
*
И вот заканчивается первая половина романа, заканчивается мирная жизнь; Европа тот как раз предметный, внешний мир, насквозь зримый, надвигается на Москву и постепенно поглощает ее. Не просто поглощает, но уничтожает ее прежнюю: разрывает, разрезает покров ее души чуждым взглядом. И Толстой, еще раз отметим это не сам, но вслед за Европой, вслед за вторгшимися в город французами, наконец, прозревает, открывает глаза на Москву. Огнем пожара она теперь ясно для него освещена: описания города делаются подробны и даже многословны. После десяти слов в первой половине романа являются целые главы, посвященные прямому зрелищу Москвы.
Вопрос: случайны ли эти контрасты? Полагаю, нет, хотя можно заподозрить, что заграничные военные главы первой половины романа писались Толстым отдельно, в другом настроении, потому и оказались так хорошо «видны». Роман собирался сложно, не последовательно, скорее аппликативно; написанные в разное время фрагменты «склеивались» один с другим (этим Толстой добивался удивительного пространственного эффекта: роман рос в разные стороны, словно он в самом деле был целый мир).
И все же столь демонстративную разность закрытое, спящее око мирной Москвы и точно скальпелем разъятое с приходом войны трудно признать случайной. Вопрос о наблюдении души здесь представляется принципиальным. Для Толстого событие 1812 года в Москве имеет сакральный подтекст. Не одно только физическое преображение совершается в Москве, но преображение духовное; оттого она возвращается в круг мировых христианских столиц.
Ее исчезновение-появление Толстой иллюстрирует прямо: Москва невидимая становится видимой. Это ли не осознанный «оптический» прием?

*
До пожара его Москва была темна, неразличаема, только душа героя над нею высоко носилась неприкосновенная, не данная в зрение (слову). С момента пожара Москва прозрела, различила сама себя и мир вокруг себя.
И стала Рим.
Это явления духовной «оптики».
В очередной раз можно вспомнить Карамзина и его проекты пробуждения русского самосознания. Вместе с ним необходимо вспомнить и о сквозном сюжете перевода Библии на русский язык. Этот перевод тоже предполагал «прозрение» слова в большем времени, сейчас с Христом. Это не синхронные, совпавшие одно с другим события, но разные стороны одного события, фиксирующие революционную перемену Москвы во времени. Москва «началась» заново язык Карамзина, перевод Библии, евангельская жертва 1812 года: это не совпадения во времени, но свидетельства того, что в Москве пошло новое время. В ней началась новая эра[45].
Сюжет евангельской жертвы Москвы составляет содержание «оптического» сюжета исчезновения-появления. Она совершила подвиг, по сути своей христоподобный; с этого события начинается ее новая, «зрячая» эра.
Поэтому вокруг нее рисуется «материк» слова, земля в новом (христианском) времени.
*
Не рисуется чертится, идеальной сферой.
Вот как очерчивает новое «пространство», сферу Москвы во времени Толстой. Он в этом метафизическом черчении весьма скрупулезен. Толстой берет в руки «циркуль», находит необходимое мгновение, которое представляется ему ключевым, центральным в его романе «Война и мир», пронизывает его острием иглы и проводит ровный круг во времени, с равными временными промежутками истории перед этим мгновением и после него. И ткань времени ровно оборачивается вокруг центрального, фокусного мгновения романа. Это может показаться приемом слишком уж механическим. Но Толстой именно механистичен в осуществлении таких приемов. Ему нужен круг, сфера во времени, идеально сфокусированная. И потому он аккуратно и расчетливо чертит этот московский круг.
Где же входит игла его «циркуля», в какое мгновение (романного) времени? Где центр толстовского времени, где новое начало Москвы? На это ответить просто так же просто, как Толстому навести свой идеальный чертеж. В то самое, уже упомянутое, мгновение, когда после внезапного точечного, именно мгновенного объяснения любви с Наташей Пьер Безухов выходит из дома на мороз, смотрит в небо, где, как мы помним, широко развернута его душа. И видит, что в небе, в самом центре его души сквозит огненное отверстие кометы.
Вот оно, это небесное отверстие, куда вдевает иглу своего «циркуля» Лев Толстой. Это место, это фокусное мгновение находится в «оптическом» центре романа. От начала романа до этого мгновения проходит семь лет и после него пройдет еще семь лет до его окончания, эпилога.
Так работает «оптик» московской души Толстой: он обводит душу «циркулем» своего слова.
Это не игра, не упражнения чистой геометрии. Нет: так Толстой собирает, стягивает, «упаковывает» время. Ему нужно собрать в целое пространство романного времени в круг, с тем чтобы положить этот идеальный круг в историю и так увидеть историю, увидеть время. Различить как полную сумму закономерностей, уравновешивающих прошлое и будущее относительно центральной (кометой в небе) точки.
Нет, это не механика. Это мнемотехника управление своей памятью, оформление памяти. В памяти Пьера центральное мгновение его жизни это счастливое объяснение в любви Наташе. Пьер так помнит свою жизнь, так он вспоминает ее в эпилоге романа[46].
И вместе с ним благодаря этому «механическому» черчению Толстого, вместе с Пьером мы вспоминаем этот роман целиком, округлой сферой, и тем удерживаем эту московскую сферу в своей памяти и своей душе.
*
Эта сфера времени и есть Москва. Она у Толстого идеально симметрична (одинаково развернута вокруг центральной точки, куда продета игла его «циркуля» времени).
Москва на чертеже Толстого выглядит идеально: концентрически и центроустремленно.
Очерчивая ее подобным образом, Толстой идеальным образом «фокусничает».
*
Нас интересует оптика языка: вот лучший опыт применения этой оптики. Линзою своего романа Толстой второй Моисей (после первого, Карамзина, предваряющего московское событие) обратным ходом собирает нашу память о событии 1812 года: показательно концентрически.
Такова его идеальная космогония Москвы.
Персонажи его «библейского», время-оформляющего романа, или романа-мифа, в который должно веровать, а не искать в нем точного исторического свидетельства, начиная с Пьера («апостола» Петра, основателя новой московской церкви оциркуленной вокруг его объяснения в любви) выстраиваются перед нами показательной галереей. Здесь уместен даже Долохов (он же, мы помним, двоюродный дядя автора, Федор Толстой). Почему, кстати, «даже»? Именно в таком контексте Долохов становится уместен. Это бес, испытатель материала времени. В той заменяющей историю мистерии, которой предстает роман «Война и мир», такой противуисторический, перечеркивающий, превращающий время в точку персонаж совершенно необходим. Все встают на свои места, в первую очередь богородицеподобная Мария Болконская и с нею рядом русская Афродита Наташа, самое Москва, которой в событие 1812 года судьба преобразиться, креститься заново.
Тут все сходится и сходится вокруг фокуса слова (о душе).
Толстой, глядя на Москву, учится мыслить и смотреть словом. Язык, который он при этом обретает, Толстой полагает христианским, которым успешно отгораживает себя от смерти, пока не добирается до Арзамаса и Астапова.
С 1812 года для него для всех нас, уверовавших в слово (как не уверовать разом в Марию и Афродиту?) начинается новое царство: не государство, но царство такого как раз, спасительного, огораживающего душу языка. Это важное уточнение; оно так же важно, как метаморфоза Николая Карамзина, в свое время отказавшегося от равно-просвещенных немецких стереометрий будущего языка в пользу его московского концентрического, «фокусного» устройства.
*
На фоне этих чертежей (тут это слово можно уверенно писать без кавычек) пожар Москвы, ее исчезновение-появление в 1812 году делаются «оптически» понятны видны, хорошо различимы на нашем «чертеже». Вот что видно прежде всего: с этого события начинается новая московская эра, начинается с жертвы, когда является не столько «сейчас Христос», сколько «сейчас Москва». Москва пускает себя во время, где она всякое мгновение будет в центре, всегда будет «сейчас Москва».
И это, с точки зрения толстовской метафизики, которой мы верим читательски «слепо», составляет центр, суть события 1812 года.
Вокруг него, сходясь к нему и расходясь, сходятся тысячи сюжетов этого года. Война, приход французов, внутренние потрясения, переломы и игра судеб, стотысячные жертвы (в один бородинский день), сокрушительный, гибельный пожар, уход французов все это у Толстого нанизывается на иглу московского острого циркуля, что чертит вокруг Москвы фигуру Нового времени. Все эти события объяснимы (нанизываемы) на ось центрального события: жертвенного, евангельского события начала христианского (в понимании Толстого), настоящего времени в Москве.

*
Следует заметить, что это метафизическое толкование событий 1812 года понравилось в момент выхода толстовского романа, в середине 1860-х годов, далеко не всем. Тогда еще были живы участники той войны; некоторые из них оспорили историческую концепцию толстовского романа.
Первым критиком выступил Петр Вяземский бывший «арзамасец», прямой последователь Карамзина, один из самых горячих его сторонников. Он жестоко раскритиковал «Войну и мир» в первую очередь за «пространственные» искажения истории. Россия и Европа, согласно его мнению, не противостояли друг другу в начале века; никакой фатальной несводимости двух этих миров не было и быть не могло (у Толстого тезис о несводимости Москвы и Европы центральный затем и нужна была ему эта автономная, идеально закругленная московская сфера). Напротив, сутью события было для Вяземского объединение России и Европы в Париже, в 1814 году, в момент победного окончания войны. Вяземский был в тот момент в Париже, свидетельствовал о триумфе объединения России и Европы, и это (а вовсе не точка кометы в московских ночных небесах) был для него момент истины, опорная точка, от которой нужно отсчитывать расстояния и относительно которой оценивать трактовки исторических событий той эпохи.
Не один Вяземский возражал на метафизику «Войны и мира»; но его критика была наиболее основательна он диагностировал принципиальную («оптическую») ошибку Толстого.
Но что нам за дело до критики Вяземского, будь она трижды справедлива? Вслед за Толстым мы погрузились в другую историю 1812 года, более чем настоящую. Мы приняли его «евангельский» миф; с того момента правда о той эпохе стала необременительным дополнением к свидетельству новой русской веры.
Вера важнее правды, она включает ее в свое большее (внутреннее) пространство или исключает, в том случае, если правда о 1812 годе противоречит тому, что мы принимаем на веру.
Такова чудная пластика нового московского языка, его оптика, берущая верх над оптикой «простого» очевидца событий Вяземского. Она куда эффективнее в пространстве нашей памяти она задает параметры этого воспоминаемого пространства, формирует нашу память и сознание.
*
Вяземский стремится связать Москву с Европой, вовлечь ее в общее (большее) с Европой пространство. Он хочет, в нашем понимании, географизировать ее. Толстой, напротив, стремится вывести Москву из, по его мнению, мертвящего куба европейской стереометрии. Он различает, разлучает Москву и Европу.
На его стороне слово; не только потому, что он писатель много больший, чем Вяземский. Нет: не только Толстой, но сам московский язык, самое наше сознание ищет автономии от европейских координат. Современному русскому слову нужны самодостаточные грамматические и содержательные, квазипространственные приемы.
*
Вяземский хочет географизировать Москву буквально, поместить ее на европейской карте, на которой центр событий в Париже, в 1814 году. Толстой настаивает на приоритете духовной географии, в понятиях которой центр в Москве, в 1812 году.
И его, Толстого, концепция делается для Москвы убедительна. Москва у Толстого в два приема, из первой половины романа во вторую открывается в мир. В собственный, «сингулярный», где она «Христос». Столкнувшись с внешним, чуждым миром, его отторгнув, самоуничтожившись, она возрождается вновь в мире, созданном по ее подобию (согласно ее сознанию). «Прозревшая» Москва увидевшая мир и себя в нем, и после того мир в себе, себя как мир. После этого Москва неизбежно, не у Толстого, а наяву, в истории, отгораживается от Европы сеткой собственных духовных координат.
Это говорит о состоявшемся в тот момент реальном, революционном перевороте русского сознания. Он состоялся, и это не прихоть Толстого, так диагностирующего события задним числом: русское сознание в огне пожара 12-го года было решительно «омосковлено».
Интересно то, что первые русские писатели, начиная с Карамзина, уже производили это «омосковление» словом, и среди них был Вяземский, который после выхода толстовского «библейского» романа возражал против подобного «омосковления».
Теперь он возражал против того себя. Положение Вяземского было противоречиво. Толстой же, очертив круг собственно московской вселенной, пребывающей в круге автономного (не текущего, но пульсирующего) времени, оборонился от всякого противоречия. Он не возражал ни против себя, ни против Москвы, потому и воцарился в памяти Москвы и нашей памяти, выставил фильтр, мимо которого мы не можем взглянуть в нашу историю.
*
Такова гравитация толстовского потустраничного «пространства».
Как писать о Москве, сознавая действие его сильнейшего фильтра? Что такое Москва 1812 года без этого чудного фильтра? Что она делала во внезапно открывшемся внешнем пространстве?
Если воспользоваться языком настоящего исследования, Москва после пожара 1812 года в этом новом пространстве успешно путешествовала.
Русское войско отправилось за границу, где успешно добивало Наполеона еще два года, но все это происходило как бы «мимо» Толстого. В наказание за это мы этой путешествующей Москвы толком не видим, как не видим самой этой «запредельной» европейской войны. Только с перископом толстовского слова мы можем выглядывать в Австрию и далее от Москвы до 1812 года. Без комментариев, без романа Толстого, после 1812 года это словно чужая война, в которой русское войско как будто не участвует.
Что бы, спрашивается, Толстому не довести повествование до Парижа? Отец его, кстати, воевал в Европе, участвовал в битве под Лейпцигом. Где битва под Лейпцигом? Все загородило Бородино.
Нет, невозможно увидеть эту битву, потому что ток нашей памяти теперь перманентно устремляется к Москве. Продолжение войны за рубежом не помещается в его (и наш) самофокусирующийся круг памяти, круг пульсирующего московского времени.
Кутузов умер, только шагнув за границу; у него уже не было сил идти против московского течения времени.

*
Что определяло (определяет и теперь) эту гравитацию нашей памяти? Слово, новое слово, в тот момент резко потяжелевшее. Слово-фокус притягательное, убедительное слово нового языка задало эту общую тенденцию омосковления русского сознания, приведшего к настоящему моменту к истинным чудесам нашего исторического «видения», когда мы отчетливо наблюдаем невидимое и не различаем очевидного.
Нет, это неточно, этого мало это только стороннее сравнение, к тому же «мертвое»: тут нельзя ограничиться одной «физической» тяжестью слова. Духовное преображение Москвы, «евангелизация» ее события 1812 года Толстым привели к тому, что слово ее нового языка не столько потяжелело, сколько ожило.
Не тяжелое, но «Я слово» родилось в Москве в эти годы. 1812 год стал апофеозом этого явления; «библейский» роман Толстого спустя полвека окончательно оформил первенство этого нового слова в духовном строении России.
Толстовские идеальные чертежи, аккуратные круги во времени и выверенные фокусы-центры воспоминаний сначала героя, Пьера, о прожитой жизни, а затем и наши о романе означают «техническое» (композиционное) обеспечение главного сюжета одушевления Москвы в слове. Толстой чертит панораму чувств; чертежи сопровождают чувства, компонуют их так, чтобы мы ничего не пропустили в Москве, не как городе, но в «Я Москве», как помещении души.
Его расчеты были верны. Только такая, «живая», «Я Москва» могла поместиться в центре материка нашего сознания, после толстовской обработки идеально округлого, обведенного острым циркулем живого слова. Он столь же невидим, этот материк сознания, сколько реален для наших тонких, поверх-материальных чувств. Он похож и непохож на географическую карту России; его совпадение и расхождение с ней драматичны и в высшей степени интересны. Путешествие по такому материку и вместе по карте России, различение на карте его невидимых границ, фокусировка его центра суть реальные и результативные действия в пространстве нашей памяти, нашего сознания.
Это настоящие (московские, литературные) путешествия.


 Записи
Записи


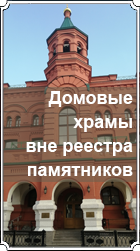


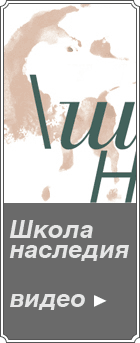



1 комментарий