Дом на набережной
Василий ГОЛОВАНОВ
Фотографии Веры Самородовой
Такой театр не выдумали б ни Шекспир, ни Брехт: иной, несопоставимый масштаб и драмы, и декораций, и числа действующих лиц, и плетенья судеб. О, тут замес был густ! Тут драма б разразилась непременно, даже если б не привнесенное обстоятельство Большого Террора, который всех участвующих как рентгеновским излученьем, шпарит испытующим, так сказать, взором рока.
Невольно вспоминается Томаззо Кампанелла — не как драматург, а как социальный алхимик. Он кое-что предугадал в том, как заботу о человечестве переплавить в невыносимое для него попечительство. Государство солнца. Во главе — метафизик, который с тремя помощниками, представителями силы, справедливости и любви, заключает браки, вершит правосудие и надзирает за ремеслами. Предписывая, прошу заметить, гражданам государства для общей пользы писать доносы друг на друга. Во времена Кампанеллы подходящего метафизика не сыскалось, видать, ни в Падуе, ни в Болонье, ни в Испании, ни в Париже даже, где уж на что горазд был Ришелье. Отчего и Государство солнца осталось одиноким мечтанием. А во времена, нас занимающие, сей метафизик был. Отчего и Государство солнца воплотилось во всей осязаемой конкретности, во всей тяжести строительных масс, в утопической — одинаковой для всех — мебели и специальной форме стражников, не присущей более никакому роду войск. Фуражка синяя с красным околышем и квадратным прямым козырьком. Большая красная звезда, разумеется.
Спешу объясниться с читателем. Иносказания нам необходимы, ибо про Государство солнца — а в наших природно-климатических условиях — знаменитый “Дом правительства” на Берсеневской набережной или, говоря еще точнее, первый дом ЦИК Советов и СНК СССР написано так много литературы специальной и неспециальной (да что говорить, романы написаны!), что автору этих строк не стоило б и браться за перо, не будь у него хоть слабой надежды разглядеть в пространстве/времени взаимосвязи и отражения не совсем очевидные. А дом сей стоит рассмотренья: ибо сколько раз человечество решало было построить новый мир, да все осекалось и получалось по-старому. А у нас раз вышло. Ненадолго, но вышло. И еще можно если не самый новый мир, то хотя бы его оболочку в лице этого дома разглядеть, а остальное довообразить во всем его нешуточном размахе.
Время и место
Решение о постройке “Дома правительства” было принято СНК в 1927 году, когда стало окончательно ясно, что все жилплощади, занятые деятелями соваппарата и Совнаркома, перенаселены. Со времени “переезда” красной столицы из Петрограда в Москву весной 1918 года такими жилищными площадями являлись: 1) Кремль, где в означенное время проживало 1257 человек и 2) так называемые “Дома Советов”, т.е. гостиницы “Националь”, “Метрополь” и др., где дополнительно проживало 5191 человек из числа ответственных работников и заслуженных революционеров, которым тоже надо было обеспечить мало-мальски приличные условия жилья в государстве победившего социализма. Однако, время вперед. Аппараты и наркоматы нуждались дополнительно в полутора тысячах ответственных работников, в то время как свободных комнат на правительственном балансе числилось лишь 29. Москва всегда страдала от перенаселения. И когда в 1920-м к вождю мирового пролетариата приезжал Герберт Уэллс, то ему пришлось снимать отдельный особняк — не потому, что фантаст-лейборист был столь уж привередлив — а потому, что и гостиницы, и Кремль были перенаселены. Так что в 1927-м решение проблемы могло быть только радикальное: строительство дома для всех нуждающихся, да такого, чтоб в нем уже проступали черты нового мира во всем коммунистическом величии.
К слову сказать, когда решение было принято, потребовалось отыскать место недалеко от Кремля, где можно было бы отстроить такую хоромину. И таковое отыскалось. “На болоте”, за Большим каменным мостом, на том берегу Москвы-реки. В старину называлось то место “Садовники” ибо тут был разбит царский сад. Вроде бы поэтично: цветенье и плодоношенье слив, яблонь, груш… Теперь это остров, отделенный от Замоскворечья Водоотводным каналом, прорытым во времена Екатерины. А тогда на месте канала была заросшая москворецкая старица: низина, бочаги, наполнявшиеся в половодье… Москвичи так и звали: “болото”. И почему-то в народе “болото” упорно пользовалось славой места дурного, “кровососного”. Никакие сады не спасали. На болотной площади казнили. Разных. Молва говорит, что Разина, но того, вроде, на Красной площади, а вот Пугачева — точно. В начале XVI века тут публичной казнью, наподобие тех, что устраивала инквизиция, сожгли то ли четырех, то ли пять человек, связанных с заговором “жидовствующих” — но тогда же церковь православная ужаснулась своего деяния и больше “костров” не устраивала. Так что молва о том, что тут “отреченные книги” жгли, “кощуны”, она, скорей всего, молва и есть: тем более, что слухами да мороками и славится “болото”. На льду Москва-реки против “болота” устраивали кулачные бои. Именно здесь во времена лермонтовского купца Калашникова “трещали груди молодецкие”. В красный, кровавый цвет окрашен и мясной рынок в зимнее, опять-таки время устраивавшийся на льду Москва-реки против нынешнего театра эстрады. Показательно и то, что именно “на болоте” московское предание располагает палаты и домовую церковь жестокого опричного приспешника Ивана Грозного Малюты Скуратова. И несмотря на то, что ровным счетом никаких доказательств тому нету, даже и в беллетристике за церковью Николы на Берсеневке закрепилось название “церкви Малюты”. Казалось бы нонсенс: одна из самых красивых, веселых церквей Москвы, построенная, к тому же, с лишком через сто лет как Малюта умер — ну какое она имеет к нему отношение? Один из призраков “болота”, такой же, как Ванька Каин, легендарный разбойник, живорез, который прямо-тка под Кремлем, у Каменного моста, вроде бы купцов потрошил. Однако, отсутствие Малюты картины нам не ублажает. “Малютины палаты”, которые правильнее все же называть палатами Аверкия Кириллова, заложены были боярином Василия III Берсенем Беклемишевым (отчего и набережная получила название — Берсеневская). И что же? Казнен царем “за встречу”, сиречь за переченье и несогласие. Достроил палаты думный дьяк Аверкий Кириллов уже в царствование Федора Алексеевича (брата Петра I). Считается, ведал царскими садами. Ну, богоприятственная должность. И что ж? Убит во время стрелецкого бунта в Хованщину…
К тому времени, когда на означенном месте решено было строить “Дом правительства”, все, разумеется, решительно изменилось. “Болото” превратилось в Остров. На стрелке острова расположился яхт-клуб; за ним краснокирпичными корпусами вставали цеха фабрики товарищества “Эйнем”, учрежденного в 1851 году и до сих пор пахнущей первосортным шоколадом (нынешний “Красный октябрь”), а за ними — первая московская ТЭЦ, управление трамваев (сохранившееся) и трамвайный круг (давно изъятый из оборота), а уж затем — остатки винно-соляных складов, пролет Якиманки и Каменного моста и — “каменный рынок” — на месте бывших царских садов. Каменные лавки с подвалами. В общем, место приготовлялось быть торгово-заводским, но тут-то и случилась коллизия.
Коммунизм и архитектура
У одесского швейцара Сергея Иофана было два сына: старший Дмитрий и младший Борис. Старшего отец отправил в Петербург, где тот еще до всяких революций по еврейской квоте поступил в петербургский архитектурный институт. Насчет младшего отец рассудил по-своему и, подкопив денег, отправил его учиться в Италию. Борис Иофан оставил несколько прекрасных этюдов классической итальянской архитектуры, но классическому наследию не внял. Возможно, тут виновата женщина, и даже наверняка. Ольга Франциевна Огарева (по отцу — княгиня Руссо, по матери — княгиня Мещерская, жена кавалергарда Огарева, непосредственного родственника соратника Герцена….. уф! Генеалогий нам не избежать, как отступлений и иносказаний). Так вот: Ольга Франциевна, владея арт-салоном в Италии и, по счастью, там же, в Италии, пережившая русскую революцию, тянулась ко всему прогресивному в искусстве и, разумеется, влюбилась в молодого радикального архитектора из России. Борис Иофан вступил в компартию Италии и под влиянием Ольги Франциевны стал подозревать, что все, чему обучали его в королевском колледже изящных искусств — отстой. Есть крутые люди. Невиданные возможности. Есть конструктивизм. Ожидание нового века и нового времени породило архитектурный стиль, невиданный, как футуризм в поэзии. С 1918 года в Германии работала архитектурная школа “Баухаус”, воплощавшая в своих разработках все самое левое и передовое. Кстати, и в тогдашнем СССР было немало архитекторов (Леонидов, Мельников, Гинзбург), экспериментирующих с тяжелым веществом архитектуры так же легко, как Родченко экспериментировал в фотографии, а Шкловский — в прозе. Безусловным лидером архитектурного конструктивистского мира был французский самородок Шарль Ле Корбюзье. В архитектуре он был экстремист, готовый снести и Париж, и Москву, чтоб на их месте построить подлинные “города будущего”. Именно он разработал основные принципы конструктивизма: ничего лишнего, чистая геометрия. Висящий на сваях и как бы не касающийся земли первый этаж; “ленточное остекление”, делающее здание максимально “прозрачным” и аскетизм, за которым виделся новый мир, разумный настолько, что обитателям его, как обитателям межорбитальных станций, чистая геометрия жилья не на срок космической командировки, а на всю жизнь готова была заменить жилье просто-напросто удобное. Борис Иофан придерживался срединной позиции. Возможно потому, что с экстремалами не знался: в Италии конструктивизм существовал на уровне теоретических разработок, поскольку уже в 1923-м году тут к власти пришел Муссолини, и в архитектуре немедленно восторжествовала державность, классика, Рим… Зато в Москве в 20-е годы было воплощено несколько интересных конструктивистских проектов (планетарий, клуб им. Русакова и др.), да и вообще в то время конструктивисты возлагали много надежд на СССР, как на “передовую” страну, где они будут, наконец, поняты и оценены… В 20-е годы Италию посетил председатель СНК А.И.Рыков. И здесь, к своему удовольствию, познакомился с талантливым архитектором, способным воплотить в жизнь замысел Совнаркома о “доме Правительства”. Он пригласил Б.Иофана поучаствовать в конкурсе на проект. Иофан победил. Время конструктивизма еще не прошло; “новый мир” еще связывался с поисками небывалых форм — от плакатов до архитектуры — “левизна” еще не стала ругательным термином. И Иофан принялся строить город будущего — “фабрику жилья” — каким бы, верно, скорее увидел его Троцкий, нежели попыхивающий трубкой метафизик из кремлевского дворца. Тут — закваска драматической судьбы дома. Ибо проектирование и начало строительства его пришлось на одну эпоху, а закончилось совсем в другую, хотя прошло-то… едва ли четыре года. Первые сваи в фундамент бывших соляных складов забили в июле 1928-го, а акт о принятии дома (с учетом недоделок) подписали уже в феврале 1932-го… Но за это время изменилось все: эстетика, политика, экономика — в которую широко было допущено лагерное начало, произошел “великий перелом”…
В этом смысле “дом на набережной”, которому долго подбирали цвет (Кирпичный? Серый? Черный?) был детищем совсем еще юного коммунизма, а за четыре года коммунизм по-сталински взматерел и скоро, скоро всякому такому “авангарду” готов был положить конец. И хотя Иофану оставили целый этаж под мастерскую на 12-м этаже “дома на набережной”, следующим проектом, который пришлось ему разрабатывать, чтобы не потерять фавора, был “Дворец Советов” на месте храма Христа Спасителя. Кстати, именно во время конкурса на проект Дворца Советов и закончился союз конструктивизма с коммунизмом. Первый этап конкурса был еще международным и конструктивисты отчасти считали его “своим”. Один из самых интересных проектов представил Ле Корбюзье. На втором этапе ни иностранцев, ни конструктивистов не было, да и вообще, к авторским предложениям отношение было по-партийному беспощадное: в конце концов, как известно, утвержденный вариант был “слеплен” из предложений трех архитекторов (Б.Иофана, В. Гельфрейха и В.Щуко). А цвет для Дома на набережной был выбран первоначально темно-серый, почти черный. Это было пожелание Метафизика. В этом была своя мистика. Мистика Власти. Он желал противопоставить Дом Кремлю. И в этом противостоянии он обрекал его на скорбную долю. Противопоставление и “переченье” в наступающую эпоху карались строго. Какая-то старая большевичка перед вселением в Дом сказала: ну вот — наш дом предварительного заключения…
Имела партийный опыт…
Кровь
Поначалу-то ничего не предвещало. Поначалу въезжали из номеров надоевших гостиниц (подумаешь, одна всего комната) в роскошные квартиры метров на 150-170 (квадратных) — хоть на велосипеде катайся. Мебель предоставлялась (стиль — аскетический — разработки иофановских мастерских; но материал отменный — настоящая кожа, мореный дуб). Только кухни были малы: они вырезывались из остатков жилплощади, как явный пережиток феодализма: ну, не готовить же тут? Ребята покушают в детском саду, мама в столовой, отец на работе поест, да еще принесет чего-нибудь вкусненького из кремлевского буфета. На кухне — разве что чайку попить по русскому обычаю…
Дом с квартирами в 150 метров жил как остров, как Государство солнца среди первобытной тьмы: вокруг-то были бараки, домишки, слипшиеся, “как грибы на пне”, какие-то кривые “дерюгинские” — как назвал их писатель Ю.Трифонов — переулки — со всякими там Костями-Бычками, Тараньками и прочей шпаной, никогда не знавшей человеческой жизни: оттуда дом с его охраной, с его балконами и широкими светлыми окнами виделся как город, или даже страна, недоступная, как лимонад в буфете “Ударника”.
Как тут не позавидовать? Ничего подобного во всей России не было. Лифты, ванны, туалеты, круглый год — горячая и холодная вода. Ставишь на кухне ведро с помоями вечером — ночью на грузовом лифте приедут, заберут, поставят чистое. Пока дом строили, рабочие девок на лифтах катали: во было удовольствие! А тут каждому: клуб имени Рыкова (нынешний театр эстрады), магазин, столовая, детский сад, своя амбулатория, своя почта, телеграф, химчистка, прачечная, телефоны! Ну, и кинотеатр… “Ударник” входил живым комплексом в Дом на набережной; молодые родители будущих мемуаристов перед сеансом после работы бежали туда попрыгать: джаз-оркестр играл, над танго царила гавайская гитара, напитки подавали, как не в стране Советов: “Марсалин”, “Какао-шуа”, печенье “Пти-фур”. Да нет, что и говорить, дом был выстроен на совесть: даже рамы окон были дубовые. Настоящие филенчатые двери…. Да уж, кому свезло, почему бы и не пожить в таком доме в свое удовольствие? И поначалу жили. Ведь — заслужили. А иначе — как? “Здесь в 8-м подъезде пьяный “Малютка” Ежов выплясывал лезгинку без сапог, в носках и галифе…” Телохранители упражнялись двухпудовыми гирями, собаководы тренировали сторожевых псов, на спецмашинах доставлялись для особых кремлевцев специальные “кремлевские” обеды. Вынести что-либо из дома (даже книгу, например) можно было только с письменного разрешения хозяина квартиры (блокнотики с бланками пропусков выдавала комендатура).
Может быть сейчас такое общежитие покажется и странным, и страшным даже, но тогда, особенно снизу, со дна утлой жизни, черной от перебранок, толчеи и примусного чада, все это просто чудом казалось. И уж конечно, дерюгинская шпана с ребятами из дома дралась не по-хорошему, когда те по Каменному мосту шли на тот берег Москва-реки в школу. Шпана их классовой, можно сказать, ненавистью ненавидела и хотела удержать за собой пространство вокруг дома. Не удержала. Дом действительно был огромен, как город. И ребят в нем было полно. Отличные, умные, спортивные были ребята. И постоять за себя могли при случае. За ними была сила. За ними было будущее. Так им, по крайней мере, казалось.
Многое в этом доме казалось, но сама кажимость была убедительна. Корчи раздираемой коллективизацией и индустриализацией страны тут не ощущались. Лагерная система казалась нормой. Казалась, понимаете? Раз уж она многим писателям показалась, прославившим “Беломорканал”. Если и были враги, то они, конечно, были вне стен Дома. Кто бы смел даже предположить, что врагами окажутся сами его обитатели? Да это же нонсенс, здесь только свои, революционная элита, первопроходцы коммунизма, лучшие из лучших: работники наркоматов, высшее военное руководство, руководство НКВД, герои-летчики, полярники, поэты, писатели, золотые перья советских газет… Система давно разматывала механизм тотальных репрессий, но тут можно было этого не замечать. Ведь сами идеологи репрессий жили в этом доме. Не только, конечно, они, но и они тоже.
Первая кровь пролилась еще во время строительства дома. В 1929-м на стройке вспыхнул пожар. Вызвали начальника Треста пожарной охраны Москвы Н.Тужилкина и после того, как пожар был потушен, арестовали и расстреляли. Но кто такой Тужилкин и кто они, счастливые обитатели дома, во дворе которого бьют фонтаны, и “эмки” из манежа каждодневно подвозят незаменимых работников то в наркоматы, то в Кремль? Никто ж не знал еще, что незаменимых нет.
Мадам Тухачевская приходила в тир в кожанке, стреляла из револьвера. Были у нее и подражатели. Любили ее ребята, стреляли вместе, чтоб получить значок “ Юный ворошиловский стрелок”. Ну, кто б мог подумать, что Тухачевские окажутся врагами? Красный маршал, закаленный на усмирении крестьян антоновского призыва, разработчик стратегии наступательной танковой войны — враг? Невозможно. Т.е. до 1937-го невозможно. А потом — враг, расстрел. Правда, были предзнаменования. В 1932-м Дом облетела весть о смерти Надежды Аллилуевой (поразительно: весть облетела, хотя никто об этом не говорил ни тогда, не потом). ОН не пришел на похороны, сказал: она ушла, как враг. Никто из ее родных, живущих в Доме, не знал, что произошло. На мои расспросы Кира Павловна Политковская (Аллилуева) и, соответственно, племянница Сталина, ответила так: восточный мужчина жену не убьет. Были гости. Он унизил ее при людях, при их женах, она застрелилась сама. От унижения. Она его любила. Сошлись два очень сложных характера…
На могиле Аллилуевой скульптор изваял мраморную розу — знак самоубийц, тех, что покинули мир по собственной воле. Когда роза сломалась, ее взяли в “ремонт”, но оттуда уже не вернули. Мать Надежды — теща Сталина — осталась жить в Кремле. Он брал дочь и племянников на дачу, но сам в Доме ни разу не бывал, несмотря на приглашения родственников и дочери. Не любил бывать в тех местах, где его волей должна была пролиться кровь. А он кровь чувствовал, как зверь. Или как Метафизик. Быть Дому окровавленну — зачем туда ходить?
Первым репрессированным в Доме правительства стал почему-то Михаил Афанасьевич Полоз, министр финансов. 1934-й год. Тогда же чудом предвиденья избежал расстрела Борис Бранденбургский, ответстенный работник, юрист. Уникальный случай. Побывал на коллективизации в Саратовской и Тамбовской губерниях и все понял. Стал имитировать сумасшествие: опаздывать на работу в Кремль, гулять по набережной Москва-реки (а при Метафизике, за десять минут опоздания “давали” десять лет), вообще творить всяческие несообразности. Однажды не пришел с работы домой. Искали два дня. Отыскался — на Канатчиковой даче. Два года лечили. Все без дураков. А он понял, один-единственный понял, что игра-то — всерьез. Уж на что лют был чекист Я.Петерс — не понял (+1937). Уж на что был “свой” комендант Кремля Рудольф Петерс… Нет, Бранденбургский один понял, что не только из “своих” надо выходить, но и вообще из мира нормальных людей, в мир безумцев, которых никто не боится. Так он спас — не себя даже, а семью. Себя порешив на пожизненное одиночество и статус “психа”. Но ведь предвосхитил! Ведь потом-то пошло повально, не взирая на чины и лица: Тухачевский, Блюхер, Косарев, сам “крестный отец” Дома А.И.Рыков…
Жуть нашла на Дом. Если ночью загорались окна — ясно было: забирают. Без различия чинов-званий. Пусть испанские повстанцы, переселенные в бараки на Болотной площади, души не чаяли в “генерале Дугласе” — Якове Смушкевиче, великолепном военном летчике (расстреляли в 1941- м, когда такие летчики стране как раз более всего были нужны). Испанцы и Михаила Кольцова, редактора “Огонька” обожали: “комрад Мигель” — расстрелян ( 1940). Метафизик не щадил никого. Отец Юрия Трифонова, Валентин Андреевич, бы соратником Сталина по Гражданской войне. Когда-то и перечил ему открыто. Как старый друг, схвачен был и расстрелян в 1937-м. 22 июня. Это вообще была “ночь длинных ножей” — тогда похватали очень многих. Для жителей Дома именно 37-й год был невыносим: машины приезжали по два раза за ночь. Бабушка Трифонова, Татьяна Александровна Славатинская, во времена большевистского подполья Сталину вязала носки в Туруханскую ссылку. Возможно, был между ними и роман. Но мольбам “железной бабушки” Славатинской Метафизик не внял. Разве что оставил ее в живых и вместе с внуками отправил в эвакуацию в Ташкент, ничем не поколебав ее веры в умного-доброго-справедливого товарища Сталина.
Академик Тарле — автор блестящего исследования о Наполеоне — и тот был арестован, как, якобы, будущий министр иностранных дел в некоем буржуазном российском правительстве. Ему повезло: быстро выпустили. Но так везло немногим: открытый список репрессированных насчитывает более 800 человек. Но те, кто официально не реабилитирован, в эти списки не внесен: это палачи. Их было не меньше. И у них тоже были семьи. Исчезал глава семьи — исчезли и семьи. Дети бродили вокруг окруженного охраной дома, сбивались в стаи, как бродячие собаки, если их никто не подбирал. Неподобранных ждала жестокая участь: их отправляли в детприемник, брили наголо, меняли фамилии, а зачастую и расстреливали.
Ну, да. Расстреливали. В Донском крематории. Детей. А зачем нужны Метафизику дети врагов? Он и своих не слишком-то жалел….
Жители Дома, сопротивляясь вопиющему злу, пригревали оставшихся сирот. Старый революционер Иванов — занимался хлебобулочными изделиями — на Каменном мосту увидел девочку, Галю Букацкую, она хотела броситься в воду, потому что родителей арестововали и что делать, она не знала. Он привел ее домой. Все знали, чья это дочь, что это девочка из Дома, но никто не настучал. Хотя доносы в то время процветали. Академик Н.В.Цицин ночью услышал плач ребенка в опустевшей квартире наркома водного транспорта. Тайно поднявшись в квартиру, он обнаружил там внука арестованного наркома, забрал его и переправил родственникам в Одессу. Был случай, когда кричащего младенца обнаружили в ящике из-под белья: в последний момент перед арестом родители спрятали его там спящего, и тем спасли. А вот Леню Хинчука не спасли: он не смог пережить, что его отца будут считать “врагом народа” и отравился газом. В общем, это страшное время продолжалось до самой войны. Никто не знал, кто “исчезнет” следующим. Кира Павловна Политковская (Аллилуева) мне рассказывала, что были времена, когда чуть ли не половина окон в доме была темная, а на дверях висели красные сургучные печати. Какой-то незыблемый, согревающий огонь горел только у героя-летчика Н.П.Каманина. Обычной практикой стали переселения из квартиры в квартиру. Если кто-то впал в немилость вождя, его могли “понизить рангом” и из большой квартиры перевести в меньшую, или вовсе в коммуналку. У некоторых нервы не выдерживали, и чтобы спасти семью, человек “подпавший под подозрение” предпочитал застрелиться. Но как показала практика, семью это обычно не спасало, ее все равно изгоняли из дома. Превращения, которые происходили в эти годы с квартирами, поистине невероятны. Скажем, квартира №221 сначала числилась за М.Тухачевским — сюда к нему захаживал Ф.Раскольников — коммунист-фрондер, бывший командующий красным флотом, затем дипломат — приезжая в отпуск из-за границы. Когда Тухачевский был расстрелян (а Раскольников вскоре убит в Ницце агентами НКВД), квартира перешла Всеволоду Меркулову, одному из самых безжалостных сталинских палачей, заместителю Л.Берии, — и к нему, естественно, стал захаживать уже Лаврентий Павлович собственной персоной. Впоследствии оба были расстреляны по одному и тому же делу. Но году в 38-м интересно, каково было иметь соседом Меркулова?
Про репрессии конца 30-х годов в наши дни писать неэтично: это как старую рану расчесывать. Главное про это уже написано. Добавить нечего почти, кроме нескольких образов — вот, вроде собаки Карла Радека, по кличке Черт, которая после ареста хозяина все бегала по дворам Дома, в руки не давалась…
Но о мистике власти следует вспомнить. Какую западню сочинил Метафизик для своих подданных, а? Как в шахматы, чужими судьбами поигрывал… Потрясающе… Недаром многие дети репрессированных не то, что входить в этот дом — видеть его не могут, обходят стороной. Как ловушку, как капкан, как западню.
И я их прекрасно понимаю.
Контрасты бытия
Если за служивыми в Дом на набережной приезжали “эмки”, то за старыми, заслуженными большевиками — “Роллс-Ройс”, парковавшийся тоже в манеже. Среди старых большевиков, помимо кровавой бабушки Розалии Землячки, жили вполне мирные “соратники Ленина” Лепешинские. В годину поволжского мора они, имея двух собственных дочерей, усыновили еще ребеночка из сирот-голодающих, что свидетельствует в пользу их человечности. “Голодающих” в доме усыновляли многие: из тех потом получались хорошие няньки для детей, но двигал людьми все ж не корыстный, а альтруистический интерес. В 28-м весь народ, конечно, можно было не замечать, но голодающих-то… Сам Бог велел… Хотя какой там Бог? Пережитки гуманизма… Ольга Борисовна Лепешинская, к слову сказать, на долгие годы посвятила себя занятиям лженаукой — “закону перехода неживого в живое”. Работы свои она продвигала через товарища Сталина, чем очень помогла Трофиму Денисовичу Лысенко, предоставив полный простор его теории перевоплощения видов. Однако, мы не о том: в деятельности Ольги Борисовны поразительна вера — и из неживого рождается жизнь. И тут возразить нечего. Если бы мы описали только кошмар Дома на набережной, получилась бы глубоко лживая картина. Ибо даже там, где жизни не должно было быть по определению, она самозарождалась. Да какая жизнь! Не знаю, как можно было не замечать исчезающих соседей, но, видимо, защитные механизмы мозга также иррациональны, как детская психология. Первые радиолы привезли в Дом герои Испании — Смушкевич и Кольцов. Все ребята бегали танцевать к Розе Смушкевич (сейчас она живет в Германии, но то время вспоминает с энтузиазмом). Во дворах играли в баскетбол. Дрались с “дерюгинскими”. Лева Федотов (он потом легендой дома стал, про него и Трифонов писал, и Ольга Кучкина, и Аджубей) — “гений места” — в этих драках вызывал у противников истовый страх — “впадал в ярость”. У него падучая была, унаследованная от отца, погибшего на Алтае, но приступы случались обычно не сразу после драки. Много было в Доме способных ребят — но Лева был действительный гений. Писал рассказы, фантастические романы… Один — про “зеленую пещеру” и сохранившийся глубоко под землей мир динозавров… Научные трактаты тоже писал, в духе энциклопедистов XVIII столетия обильно украшая их рисунками. Литературные конкурсы устраивал (в основном с юным Трифоновым соревновался в словесности). Тут же подвизался Миша Коршунов. Издавали рукописный журнал “А”. Но Левка был круче — учредил Тайное общество испытания воли (ТОИВ), вступить в которое можно было, только пройдя по перилам балкона 10-го этажа… Зимой ходил в коротеньких бриджах немецкого образца — “закалял волю”. Корпел над энциклопедиями, дневники вел, которые, собственно, его и прославили. Типа, он предугадал войну. Мальчик-пророк: так про него, в основном и писали потом. Все остальное — детское, а это… Пророчество, не скажешь иначе: (тетрадь XIV: “Хотя сейчас Германия находится с нами в дружественных отношениях, но я убежден (и это известно всем), что это только видимость. Я думаю, этим самым она думает усыпить нашу бдительность, чтобы в подходящий момент вонзить нам отравленный нож в спину…” Это написано за 17 дней до начала войны. С поразительной прозорливостью он называет союзников Германии — Венгрию, Болгарию, Румынию, Финляндию, Италию. Тут нет, казалось бы, ничего сверхъестественного: разве такое не предугадать? Оно же очевидно… А вот великий Метафизик — не предугадал. Может, он и не верил в пакт Молотова-Риббентропа, но тогда, значит, верил, что мы “блестя огнем, сияя блеском стали”, удар гитлеровцев предупредим. Но о такой потере, как Химки под Москвой, мог думать лишь очень умный человек. “Победа-то победой, но вот то, что мы можем потерять в первые дни войны много территорий, это можно”. Немцы дойдут и до Москвы: “Я лично твердо убежден, что это будет последний наглый шаг германских деспотов, так как до зимы они не победят, а наша зима их полностью доконает, как это было дело в 1812 году с Бонапартом”…
Итак, мальчик Лева оказался и прозорливее Сталина и прозорливее Гитлера с его “блицкригом”. Сам он просился на фронт неустанно. Сначала не брали: эпилепсия, близорукость. Потом взяли. В учебке под Тулой он оказался в грузовике, который попал в поле зрения какого-то “Юнкерса”. Разорван бомбой. Много лет спустя его мать, обитающая в однокомнатной квартире Дома одна, ходила в солдатских шнурованных ботинках и как многие люди, потерявшие в жизни все, казалась не в себе. Потом гениальность Левы оценила пресса и разнесла по всей стране. Она немного ожила. А потом умерла. Вот такая история.
Школа. Вот о чем обязательно сказать. Школа №19 имени Белинского на Софийской набережной (в прошлом — мариинское училище благородных девиц, находившееся под патронажем вдовствующей императрицы Марии Федоровны). Здесь по стенам развешены были мутноватые, в благородных рамах зеркала, аквариумы оставались с пучеглазыми вуалехвостами… Здесь музыку когда-то преподавал Рахманинов, остался его рояль. Но и не только рояль — традиции жизни школы в какой-то момент пришли в явный конфликт с опричными нравами государства…. Мало того, что учителей любили: учителя физики Василия Тихоновича Усачева, и особенно — учителя литературы — Давида Яковлевича Райхеля. Система требовала, чтобы дети и жены отрекались от осужденных отцов и мужей. Школа не требовала. Хотя случаи добровольного отречения были. Школа противостояла Метафизику. Школа была мужественна и милостлива.
О том, что за жизнь была в Доме, нам разумеется, не понять, сколько бы экспонатов не прибавилось в музее Дома на набережной. Сейчас даже тех, кто застал то время детьми, осталось совсем немного. А в их памяти многое друг на друга наслоилось, образы слиплись и все валит одним потоком: роскошное платье “вроде бы из змеиной кожи” Любови Орловой, увиденное в проем приоткрытой двери, знакомые отца, компании ребят, которых давно уж нет, воспоминания о походах к товарищам-коммунистам, нашедшими приют в СССР. Вот фото Рубена Ибаррури… А это — Женя Гаррати… Компаний, причем разных возрастов, было множество. У Трифонова и Левы Федотова — своя. У Сергея Макарова, внучатого племянника Б.Иофана — своя (“золотая молодежь” — но это потом, уже в 50-е годы…) У Тамары Шуняковой — своя. Ближайшей подругой ее была Этери Орджоникидзе, но она, кажется, всех знала: и трифоновскую компанию, и Аллилуевых, и Васю Сталина, и детей одного из первых советских ракетчиков И.Клейменова, расстрелянного в 37-м. Я наблюдал, как она со старческой нежностью перебирает в коробке фотографии, вглядываясь в изображения бывших мальчишек, которые вылетели из дома, как из гнезда, а потом уже жизнь и война развеяли их по свету, и только она еще знает — кто нашелся потом, кто пропал. “Толька Иванов с нашего дома. Витька Акимов. Галька Крылова. Валька Коковихин. Ляля Каласанидзе…” Нет-нет, Дом на набережной — штучка не простая. Здесь, в его 505 квартирах сосуществовало столько разных людей, столько миров… Здесь жили люди, биографии которых покрывали всю послереволюционную современность самыми замысловатыми письменами. Если бы можно было вообразить себе некую совокупную биографию всех, кто когда-либо в этом доме жил… Ну, это все равно, что написать историю страны. Тут собраны все: и герои, и палачи, и юные романтики, и циники высочайшей пробы. Скажем, жил же в Доме писатель Александр Серафимович Серафимович? После 1924-го, кроме “Железного потока” ничего существенного не написал. Но пожил до 1949-го безбедно. А Демьян Бедный (Придворов Ефим Алексеевич) переборщил: стал сочинять сатирические пасквили на русскую историю. Метафизик не стерпел. За угодничество простил бы, да Демьян стал насмехаться над Родиной… А Сталин в качестве идеологии выбрал дух национализма. И хотя чуть не половину русского народа похерил в лагерях, различать-то надо: метафизика — не практика…
Война
21 июня 1941-го Лева Федотов записал в своем дневнике: “Война должна возникнуть именно в эти числа этого месяца…” И она “возникла”. Вся жизнь в Доме изменилась: девушки постарше пошли учиться на медсестер. Помладше — эвакуировались вместе с родителями, кто куда — вернее, куда переправлялся наркомат. В основном — в Ташкент, Куйбышев, Киров. Дом стоял мрачный, пустой. Тысячи окон были заклеены крест-накрест полосками бумаги. Жилых осталось два подъезда. Когда Тамара Васильевна Игнатошвили (тогда еще Шунякова), в апреле 42-го вернулась из эвакуации, ей повезло попасть в свою прежнюю квартиру, где, правда, прибавилось жильцов и обстановка сложилась отнюдь не довоенная. Квартира была ограблена. Тамару Сергеевну вызвали в комендатуру и спросили: это ваше? Ваше? Она узнала свое ситцевое платье. Расплакалась. Патефон был надписанный, именной — она взяла. Предлагали мыло — но она еще не знала, что это дефицит. Оказалось, комендант дома с охраной вместе в октябре 41-го, когда два-три дня грабили магазины по всей Москве, тоже решил подсуетиться и из пустых квартир вывез часть ценного имущества: мебель, рояли куда-то увозил в деревню, картины…. Разумеется, потом был взят, расстрелян. Тамаре Васильевне писали ребята со всех фронтов: надо ж было кому-то писать? Некоторые и влюбиться-то еще не успели… Она красавицей была и нравился ей Рубен Ибаррури — испанский коммунист. О нем с фронта писал ей приемный сын Сталина — Томик. Вообще-то, он сыном был знаменитого “товарища Артема” ( Федора Андреевича Сергеева) погибшего при испытаниях реактивного вагона в 1921 году. Но Сталин его “усыновил”, определил в артиллерийское училище и больше забот не полагал. Вот он и написал ей про Рубена: последний раз, мол, видел его на хуторе таком-то, недалеко от Сталинграда… Судьба Татьяны Васильевны трагична: ей писали все ребята, отцы которых оказались “врагами народа” и которые по этому одному мечтали за отцов рассчитаться — доказать делом, на войне, что они не враги, а герои. А в 42-м встретился ей человек. Обаятельный, любвеобильный. Потом оказалось — из 9 управления НКВД (охрана). Цветы дарил. Сирень выбирал — прекрасную. Обаял. Что ей было делать? Выбирать между друзьями, отцы которых НКВД были репрессированы, или человеком, который в этой организации работал? Она свой выбор сделала. Выбрала его. Впервые именно в ее доме я увидел фотографию генерала Власика с женой. Власик был начальником охраны Сталина, близким другом семьи Игнатошвили. Его Берия потом убрал. Вот так все переплелось. И все же отдаленный результат получился прекрасный: большая дружная семья. Целая когорта замечательных внуков и правнуков…
Родня
Прошла война. Люди возвращались на мирное житье в надежде, что кошмар отступит. Слишком много страна претерпела. Не до крови. Убитых на фронтах не перечесть…
Дом изменился, но жизнь в нем мало-помалу налаживалась. Охрану в фуражках с прямым козырьком сменили женщины-вахтерши. В “Ударнике” крутили фильмы, но джаз исчез, и танцы прекратились. Типовую иофановскую мебель народ стал помаленечку менять на собственную обстановку… В Доме появились новые почетные жильцы, творцы победы — прославленные маршалы Г.К.Жуков, И.С.Конев… Ну а молодежь… Молодежь, разумеется, жила надеждой…
В 1947-м Кира Павловна Аллилуева открыла дверь на неожиданный звонок. В то время сама она приглашена была на кинематографическую роль по какому-то водевилю Чехова, и, открыв, ушла в свою комнату репетировать либретто: “лужки мои, лужки не мои…” Вдруг в квартире возникло… как это назвать? Какое-то жуткое электричество. Она распахнула дверь. Навстречу шла мать в сопровождении двух сотрудников НКВД. “В чем дело?!” — не отвечая, мать грубо ее оттолкнула. — “Почему?” — она не поняла. — Мать хотела покончить с собой. Не успела.
Саму Киру Павловну забрали через девять месяцев. “К маме пришли в 5 часов, а ко мне пришли ночью. А я чувствовала, что за мной ходят. Сначала хотели проникнуть на кухню в грузовом лифте — но в ту пору дверцы мы уже запирали. В 2 часа ночи с 5 на 6 1948-го января — звонок. Открыл брат. Я еще читала “Войну и мир” — после этого не могла этот роман в руки брать. Брат говорит: Кира, к тебе. Кто мог прийти в 2 часа ночи? Но они так любезно: “Оденьтесь во все теплое, возьмите 25 рублей”. А тогда только-только поменяли деньги. Отвезли сначала на Лубяночку любимую, там без всяких разговоров сунули куда-то — дышать нечем, ничего не видать. Слышу: вода течет. Слава богу, платок был — на сердце — сразу плохо стало. Всю ночь сидела в какой-то комнате, где вода была, и больше ничего. Потом, значит, меня вызвали и сказали, что мы вас арестовали, вы враг народа — и меня в Лефортово”.
Обвинение: соучастие в отравлении отца.
Отец, Павел Сергеевич, незадолго до смерти, в 37-м году, командирован был в штаб Блюхера. С какой-то проверкой. О чем они там говорили, что он узнал — неведомо. По возвращении оттуда внезапно умер. Ну, то есть как внезапно? Утром выпил кофе, поел бутербродов… В полдень домой звонят из Кремля: “а чем вы его кормили?” “Как -чем? Бутербродами, кофе”. — “Он в Кремлевке”.
“Надо ли к нему поторопиться, пришлите машину”. — “Нет, мы вам все сообщим”. Пока доехали, Павел Сергеевич умер. Врач сказала, что очень ждал жену, хотел сказать ей что-то. Десять лет Метафизик держал в запасе это “дело”, а когда благодаря розе скульптора И.В.Шадра на могиле Надежды поползли слухи, что она покончила собой… Он и дал делу ход, под который загремела вся семья. Только малые дети остались с домработницами. Да дядя Федя Аллилуев. Он несколько тронутый был по причине революционного энтузиазма. Когда Надежда в девятнадцать лет бежала к Сталину на Южный фронт, дядя Федя — тогда еще шестнадцатилетний пацан — тоже решил поприспешествовать революции. И они с дедом повезли большевикам столь необходимые им серебряники. И попали аккурат в объятья Камо (Семена Аршаковича Тер-Петросяна) знаменитого по совместным делам со Сталиным большевистского экспроприатора и, в некотором роде, партизана. “Вы кто такие?” — спросил Камо. — “Большевики? Ну вот мы вас сейчас и проверим. Мы вас расстреляем”. Поставили к стенке, дали залп поверх голов. Дедушка ничего, а дядя Федор как-то постраннел. Странности у него были невинные: он много ел, из гостей не мог уйти часа по четыре… Когда арестовали Анну Сергеевну Аллилуеву, Евгению Александровну и Киру, дочь Сталина, Светлана, говорят, пришла к отцу: “за что ты теток моих посадил, они ж мне мать заменили?” Сталин ответил: “Будешь адвокатничать, я и тебя посажу”. Ну, пошутил.
Он родственников не сажал: уничтожал. Все Сванидзе (родственники первой жены, от которой у него был сын Яков) были расстреляны. Аллилуевым повезло больше. Киру Павловну выслали в Шую, она там провела шесть лет, в 53 году вышла. Сталин еще был жив. Паспорт только выдали с другой фамилией — Политковская, по мужу. Через год, 2 апреля 1954-го, выпустили мать. Она несколько лет просидела в одиночке, лицевые мышцы у нее атрофировались. Кира Павловна ждала ее в приемной ГБ немыслимо-долгие часы. Когда Евгения Александровна вышла, она с величайшим трудом произнесла: “ну вот, он и вспомнил обо мне”. “Да нет, — сказал ее сын, Сергей. — Он просто умер”.
Да, ему надо было умереть, чтобы кошмар тридцати пяти лет Российской жизни прекратился. Понемногу. Очень медленно. И все же слово “расстрел” перестало быть главным существительным русского языка. Как страшно, когда главным словом в языке оказывается “расстрел”. Коммунистическая толмудистика — это все вздор, точить балясы. А вот расстрел — это серьезно. Говорят, Ежов две пули в бумажку завернул на память — те, что вынули из головы Зиновьева и Каменева. Вожди… А тут всего девять грамм — а ну-тка, поспорь…
Немного находилось охотников спорить.
Бунт
Но один нашелся. Жил в Доме на набережной герой полярных эпопей Петр Петрович Ширшов. На “Сибирякове” Севморпуть прошел в 32-м, участвовал в неудачной “Челюскинской” эпопее, на “Красине” проломался-таки сквозь полярные льды, самые гнилые годы (1937-38) дрейфовал во льдах на станции Северный полюс-1. Натура искренняя, страстная, влюбчивая. Когда во время войны жена уехала в эвакуацию, а он, в должности наркома Морского флота, обязанного обеспечить вывоз Бакинской нефти, остался в Доме, в страшные дни всеобщего “драпа” и грабежа Москвы 16-17 октября он встретил на Кремлевской набережной женщину. Она была не просто красива — бывает так, что люди смыкаются, как две ладони. Любовь возникает сразу. Она была актрисой. Женя Горкуша: снималась до войны в фильме “Пятый океан”, в сорок пятом — в “Неуловимом Яне”. Всюду они ездили вместе — в Баку, на восстановление разрушенных портов: Новороссийск, Одесса, Мурманск, Петропавловск, Владивосток… Когда семья Ширшова вернулась из эвакуации, Женя уже родила ему сына. Разобрались, разошлись. Всякое случается в человеческой жизни, особенно в такое время, как война.
Возможно, они были идеальной парой. Он — полярный герой и государственный деятель. Она — первая красавица Москвы. Случилось так, что на одном из приемов в 1946-м ее заметил т.Берия. Сделал свойственное ему предложение. Она ответила пощечиной. Прилюдно. С этого момента судьба ее была решена. Нет, ничего не предвещало. Через несколько месяцев заехал на дачу знакомый товарищ — Абакумов, Виктор Семенович, зам. Берии. Сказал: что это у вас телефон не работает? Вас вызывают в театр…
И она, как была, в летнем платье села в машину и исчезла навсегда.
Ширшов все понял. Но что он мог поделать? Убить тирана он не мог. Он готов был убить его или уж, на худой конец, себя: прилюдно министр морского флота разорвал портрет Сталина и заперся в своем кабинете. Где Женя, он не знал. Почему-то отторгал мысль о том, что она в двух шагах от него, на Лубянке. Чтоб застрелиться, было слишком много в нем жизни. Два дня пил. Когда сотрудники министерства поняли, что вот-вот бабахнет выстрел, они привели к двери наркома ребенка, которому едва было два года. И он доорался, достучался до отчаявшегося мозга отца.
Что дальше? Сломали Героя Советского Союза. Положим, Берию он прилюдно “фашистом” обозвал. Но его даже брать за это не стали. Понимали, сойдет и так. Человек таял медленно, но верно, потеряв любовь, потеряв самую главную опору в жизни: “Пишу только для того, чтобы уйти хотя бы на несколько часов от кошмара, от которого не спасет ничто. Пишу потому, что самому себе я могу сказать, не боясь встретить иронически существующего взгляда, свое настоящее счастье я нашел осенью 41-го года…” Женя, Женечка, Женя…. Сколько ни зови, не дозовешься. О том, где она, он так и не узнал. Она отравилась снотворным в Магаданской ссылке. Интересно, кто поставлял ей снотворное в таких количествах? Нам не узнать. Абакумов был по приказу Сталина арестован в 1951 году и три года в тюрьме ждал расстрела. Ширшов умер в год смерти Сталина. Ничья смерть заменить ему живую Женю не могла.
Пятьдесят лет спустя
Ну, не пятьдесят, а пятьдесят четыре — не верится, что так близко. Не верится, что народ мог измениться за это время. Ни во что не верится. Вот в чем итог прошедших лет. Впрочем, это словеса все. НКВД прошлого отдавать не любит. Прошлое, как и будущее, добыть, сработать надо. И если уж о Доме говорить, то в этом смысле нельзя молчать о таком человеке, как Артем Задикян, фотограф. Сначала они вдвоем с Михаилом Коршуновым работали и, надо сказать, горы материала нарыли по Дому. Теперь, когда М.Коршунов умер, Артем продолжает вести дела один…
Артем Задикян — он в Доме не жил. Дружил здесь с ребятами, играл в футбол. А когда до серьезного дошло, до капремонта — усел отснять и квартиры, и рисованные обои, краской накатанные на стенах, “под шелк”, и натуральную живопись в лучших квартирах на потолке, в плафонах: потом-то этого ничего не стало. А уж теперь и подавно: евроремонт — и шабаш. Артем зафиксировал все. До сих пор один из непременных его объектов — помойка. Оттуда ведут свою генеалогию немало экспонатов музея. Мы пошли на помойку. Двое мусорщиков, Олег и Николай, покрытые каким-то липким водочным потом, встретили нас приветливо:
— Есть книга. Сталина.
— Тащи.
— А на бутылку есть?
Я роюсь в кармане: найдется.
— Тогда (товарищу) беги….
Мусорщики промышляют на помойке дома давно: то шинель найдут майора военной авиации, то поблекшие фотографии, то негативы, то целиковую шашку казацкую… Что не удается сдать в музей, продают на Арбате. У каждого свой бизнес. Дом тоже стремится успеть за временем, жить по-своему, без темного прошлого, без подвигов и без предательств…. Теперь тут салон красоты, фитнесс-клуб, магазин “Седьмой континент”, кинотеатр и казино “Ударник”, где с лакейской угодливостью вам при парковке преподнесут зонт и проводят до интерьера, где разыгрывается “Ауди-4” и другие прелести современного буржуазного мира.
Однако, красочные рекламные навески сути дома изменить не в силах: до сих пор, словно какой-то фантастический серый город, он встает во всю ширь горизонта, о чем-то мучительно нам напоминая. Странная постройка. Возможно, дома такой судьбы не было не только в России, но и вообще в человеческой истории. Странная метафизика. Идиотский вертящийся значок фирмы “Мерседес” на доме — лишь знак непонимания, что такие памятники — не подставка для рекламных символов. С некоторыми домами не надо заигрываться.
С Артемом Задикяном зашли в гости к внучатому племяннику Б.Иофана — Сергею Сергеевичу Макарову. Пятьдесят лет на подлодке: по специальности — обнаружение подлодок противника. Кое-что было понято. И когда сейчас Сергей Сергеевич, разворачивая пред собою карту Москвы, говорит, что именно в этом месте, на этом доме, сошлись три типа электромагнитных “волноводов” — в это верится. Странна энергетика этого места. Об этом походя не стоит говорить, но что-то в свое время пало на этот Дом — то ли космический вихрь, то ли тень его руки.
Слава Богу, мы-то живем. В своем, узлом завязанном времени. И все-таки надеясь на будущее.
Лучшее будущее.










 Записи
Записи


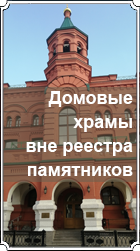


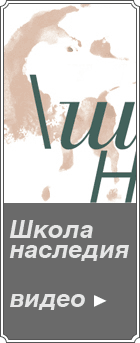



5 комментариев