Расстрельная география
Василий Голованов
Если бы можно было представить себе ландшафт в некоей зримой ретроспективе, например, в кино, то огромное число уголков именно нашей родины в течение последних ста лет изменилось настолько и столько раз, что было бы непросто поверить в то, что это — один и тот же ландшафт. Я говорю не о тех случаях, разумеется, когда изменение вызвано чем-то естественным: ростом города, строительством плотины и т.д. (в конце концов и Нью-Йорк до небоскребной эры совершенно для нас неузнаваем). Я говорю о том, когда и изменений-то особых не происходит, однако с течением времени ландшафт делается совершенно непохожим на себя. Сам на себя неналожимым. Прежде всего по духу. Это, конечно, связано с драмой нашей истории, ибо тот же Соловецкий монастырь — это нечто совершенно противоположное Соловецкому лагерю особого назначения, разместившемуся в его же стенах. Таких “перевоплощений” по стране — сотни. Нет нужды далеко ездить, чтоб поглядеть. Но одно место потрясло меня особенно: это Бутовский расстрельный полигон километрах в семи на юг от современной МКАД.
Здесь — прекрасное по своим ландшафтным возможностям место, не случайно оказавшееся в том венце усадеб, которым некогда окружена была старая Москва. Звалась усадьба Дрожжино. Парк, пруды конечно, барский дом, конный завод, ипподром. Хозяин, И.И.Зимин, был коннозаводчик. Управлял имением его племянник, Иван Леонтьевич, жена которого, С.И.Друзякина, была певицей в опере и в свое время считалась одной из лучших исполнительниц партии Татьяны Лариной. Усадебный дух! Дух парка, сада: оранжереи, желтый песочек, особенно любимые в подмосковных усадьбах бело-розовые маргаритки и — забавы. Конечно, боже мой! Слон, пущенный в парк для развлечения гостей, обезьянки, лошадки-пони из зверинца помещика Н.О.Сушкина, жившего в недалекой Щербинке, гости из Суханова (имения Волхонских), гости из Астафьево, катание на лодках, фейерверки, танцы дрессированных лошадей на круглой поляне…
Да-с… Ну, а потом — будто скукожилась и прогорела пленка и изображение блекнет, блекнет, пока вдруг не возникает какая-то понурая деревня, неухоженный парк, люди в фуражках… Барский дом уже исчез, но что-то еще узнаваемо: вот конюшня, лошади… А потом снова — провал, скукоживание пленки, ибо метаморфоза неокончательна — бывшему имению Зиминых суждено было стать не сельхозколонией ОГПУ, а жутким местом, где всякий дух жизни вытравлен, где смерть торжествует во всей своей голой неумолимости: засекреченным, нигде, ни в каких архивах не значащимся Бутовским расстрельным полигоном.
Выстрелы в лесу
В 1934 году из Екатерининской пустыни, незадолго до этого превращенной в тюрьму (впоследствии известной, как “Сухановка” — секретная политическая тюрьма НКВД) на десяти подводах в Дрожжино привезли зэков. Жителей деревни, прилегавшей когда-то к усадьбе, почти всех выселили в поселок “Подсобное хозяйство”, обслуживающий Дом архитекторов “Суханово”, разместившийся в имении Волхонских. Ну, а зэки обнесли два гектара леса колючей проволокой и внутри, на месте, где прежде был яблоневый сад и кусок парка, сделали еще одну выгородку: тогда там ни забора не было, ничего — проволоку так и вели по деревьям, и она в двух местах осталась даже, внизавшись в кору. Оставшимся жителям Дрожжино и близлежащего Бутова было объявлено, что здесь будет стрелковый полигон НКВД. Ну, полигон — и ладно. Время было не для вопросов. Тем более к такой организации. И вот с конца 35-го года на полигоне стали раздаваться выстрелы. Потом — весь 36-й, 37-й, 38-й… Бывало, стреляли много часов подряд. Иногда, вроде, крики доносились, один раз будто бы даже женский: “не трогайте меня, не трогайте меня!” На рассвете родители, отпуская детей в школу, запрещали им проходить мимо полигона, говоря, что это “скверное место”. Конечно, кое о чем они догадывались, да и как не догадываться — почти все работали в НКВД — кто в столовой, кто извозчиком, кто истопником, кто шофером. Был там мужик, в Дрожжино, у которого прежде чем все обнесли колючкой, дом стоял — прямо на территории полигона. И он в спецзоне работал. Вечером у него работа была. И все его звали Федька-палач. Хотя он палачом не был. Он на экскаваторе работал. И он-то точно знал, почему это место “скверное”. ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗДЕСЬ СОТНЯМИ РАССТРЕЛИВАЮТ ЛЮДЕЙ. А он их землей присыпал с помощью бульдозерного ножа, которым оборудован был экскаватор “Комсомолец”. Ну и новые рвы копал — глубина три, ширина четыре, длина — хоть метров сто. Так что по сравнению с тем, что другие знали-видели раз-другой, мельком, возвращаясь с ночной электрички — проносящиеся мимо “воронки”, крытые “автозаки” — он, можно сказать, знал почти все. Но никому не обмолвил ни слова.
Я, когда приступал к этому материалу, честно говоря полагал, что мне удастся на месте какое-никакое собственное расследование провести, хоть одну фразочку из кого-нибудь вытянуть, которая еще не вытянута. Отец Кирилл, настоятель храма, построенного на месте полигона, прямо сказал: сейчас свидетелей не осталось уже, все умерли. Осталась одна старушечка, но она заболела сейчас, не знаем даже, выживет или нет. А нам бы надо вещь одну у нее уточнить.
— Какую вещь?
— Она когда молодая была, при кухне работала. Может, еду разносила. И будто бы был случай, когда она офицеров каких-то кормила, запомнила их — как они смеются, суп хлебают… А на следующий день понесла судки на полигон и увидела этих же офицеров мертвыми во рву…
Я подождал несколько дней, осведомился, как здоровье этой женщины.
— Умерла.
Трава забвенья
Сейчас уже все умерли. И свидетели, и исполнители. Поэтому так трудно было обнаружить эту “расстрельную зону”, так трудно восстановить списки погибших там… После смерти Сталина полигон закрыли. Внутреннюю зону огородили глухим забором с проволокой, посадили охрану с автоматами и собакой и на долгие годы как бы закрыли на ключ. До этого, правда, чтобы провалы на месте рвов были не так видны, туда свозили с городских свалок мусор — заравнивали. Поселочек Дрожжино — ничего общего уже, конечно, не имеющий с бывшей усадьбой Зиминых — постепенно “отключился” от зоны, зажил своей собственной жизнью. Те, кто знали, молчали. Одни молчали потому, что они глотнули страху, который навеки замкнул им уста. А другие в Москве, на Лубянке — молчали, потому что знали и другое: чтобы память умерла, нужно время. Много времени. Потом вокруг зоны вырос дачный поселочек НКВД, в котором, правда, поначалу не разрешали строить дома выше одного этажа и без подвала: но потом и это забылось, по краям поселка выросли особнячки, клубника пошла, смородина, гаражи, насущные вопросы — и постепенно закрытая территория за забором, в щели которого виднелись только деревья да глухая трава, перестал занимать людей.
Любопытно, что в годы хрущевской “оттепели” все-таки очень многое открылось. Разумеется, не могло открыться все — тогда бы и сам Хрущев, и большинство власть придержащих оказались бы повязанными общим кровавым делом. Но все-таки очень многое всплыло. Из лагерей вышли люди, которые поведали страшную правду о ГУЛАГе. Однако даже название “Бутово” нигде ни разу не промелькнуло. Из всех, кто по ошибке или по формальной оплошности в оформлении его “дела” не был расстрелян в ту же ночь, что его привезли сюда, действительно избежал расстрела только один человек. В то, что он уцелел, почти невозможно поверить, но это факт. О “расстрельных зонах” ни капли информации не просочилось до самых перестроечных лет, что порождало буйные и ужасные домыслы: скажем, в одной неплохой “тамиздатовской” книге о Сталине я читал, что трупы расстрелянных размалывали в специальных мясорубках и попросту спускали фарш в канализацию…
А травой забвенья оказался борщевик — сорная трава, который так буйно разросся в запретной зоне, что общественники из Комиссии по делам необоснованно репрессированных, которые впервые ступили на ее территорию — а это случилось только в июле 1993 года — оказались буквально в джунглях: несколько старых деревьев напоминали, что когда-то здесь был парк, да земля под ногами была странно бугриста. Не так изначально была уложена Господом эта земля. Тогда об этом месте почти никто ничего не знал.
“Спецобъекты” НКВД
В рассекречивании Бутовского полигона не обошлось без журналиста: им оказался А.А. Мильчаков (сын репрессированного первого секретаря ЦК ВЛКСМ А.И.Мильчакова), который начал исследования по массовым захоронениям задолго до того, как тем же вопросом официально занялся КГБ. Домыслов он не строил, а исходил из самой логики происходящего: с 1918 года в Москве беспрерывно расстреливали людей. Но если поначалу Донского крематория и окраин московских кладбищ кое-как хватало, чтобы хоронить этих несчастных, то в годы массового террора, порожденного ежовскими постановлениями 1937 года, “кладбищенское хозяйство Москвы”, как это принято говорить, справиться с поступающим количеством трупов уже не могло. А значит, должны были существовать специальные кладбища или места расстрелов, где хоронили на месте. А.А.Мильчаков нащупал к югу от Москвы треугольник Сухановка — “Коммунарка” (бывшая дача наркома НКВД Ягоды, позже — место массовых захоронений) — Бутово. И в своем телерепортаже даже назвал “зону” Бутовским расстрельным полигоном. Видно, тогда еще были живы свидетели, которые проговорились хотя бы о названии. И хотя ворота ему, разумеется не открыли и снимал он, по сути дела, только забор, передача сыграла важную роль. Потому что в это же самое время внутри Министерства Безопасности РФ и его Московского управления тоже были созданы группы реабилитации, которые тоже занимались поиском мест массовых захоронений 30-40 годов. Дедуктивным методом работники группы реабилитации тоже сошлись на целесообразности “проработки” южного направления — именно Бутова и “Коммунарки”. И даже выезжали на места для опроса населения. Но что удивительно? Внутри своего ведомства никаких следов они очень долго не могли обнаружить. Ни одного документа! Ни одного приказа, хотя бы косвенно подтверждающего существование спецобъекта Бутово. И только в конце 1991 года в архиве Московского управления МБ были обнаружены неизвестные ранее и нигде не зарегистрированные материалы. Точнее — 18 томов дел с предписаниями и актами об исполнении приговоров о расстрелах 20.675 человек с августа 1937 по октябрь 1938. На документах стояли подписи начальника управления НКВД по Москве и Московской области И.Д.Берга (сам расстрелян 7 марта 1937) и его заместителя М.И.Семенова (расстрелян 25 сентября 1939). Один из “ветеранов” НКВД, фамилию которого могущественное ведомство открывать не захотело, удостоверил их подписи и подтвердил наличие “спецобъектов” в Бутово и “Коммунарке”. В “Комунарке” захоранивали политическую “верхушку”, партийных оппозиционеров, старых большевиков, деятелей Коминтерна и братских партий, членов правительства и т.д. В Бутово непосредственно расстреливали и сваливали во рвы приговоренную “тройками” к расстрелу “низовку”. Народ.
Новомученики и исповедники российские
С тех пор, как первая группа общественников ступила на землю Бутовского полигона, прошло десять лет. С тех пор “смысловой ландшафт” в Бутово в очередной раз сменился, как, во многом, сменился и состав группы, работающей над реабилитацией расстрелянных. В ней много молодых людей, причем почти все они — прихожане выстроенного на полигоне, буквально на краю рва, “на рву” храма Новомучеников и исповедников российских, т.е. священнослужителей и прихожан, погибших за православную веру. Уже в самом начале работы со списками расстрелянных и с их личными делами выяснилось, что в Бутово расстреляно на удивление много священников — около 700 — и мирян, приговоренных за исповедание веры. Дела их передавались потом в Патриархию, где была уже создана комиссия по канонизации новомучеников. И в результате получилось, что в земле Бутова покоится прах 255 святых, и земля здесь, в таком случае, в буквальном смысле святая, ибо такого количества прославленных подвижников веры не погребено даже на территории Киево-Печерской лавры. И когда я впервые попал на территорию Бутовского полигона 17 мая 2003 года, в день Собора бутовских новомучеников, на который съезжаются чуть ли не все свободные от служб священники Москвы и ближайшего Подмосковья, то поразила меня прежде всего радостная атмосфера праздника — по сути пасхального — праздника воскресения. И когда кто-то из церковных иерархов, мощным шагом войдя в каре “отцов” (под открытым небом образующее как бы стены живого храма) зычно возгласил: “Христос воскресе!” — а сотни сильных, хорошо поставленных голосов отозвались ему — “Воистину!” — так, что трудно было удержаться от какого-то чистого праздничного восторга. Накрапывал дождик. Красные ризы священников на фоне молодой майской зелени смотрелись на удивление красиво. По всему саду, вернее по всей территории бывшего расстрельного полигона священники исповедовали и причащали верующих. Поминальный крест, установленный у обозначенного веревками рва, как алтарь, сиял огнями свечей. Небольшая, ладная, деревянная церковь виднелась в стороне, новая колокольня… Ничего в этом не было ни грустного, ни заупокойного… Напротив, даже списки расстрелянных священников на специальных щитах возле храма как будто призывали не грустить, а радоваться: вот, нашлись, не забыты, и вместе с памятью о них, вместе с памятью о тех, кто лежит с ними рядом вновь обретается то, что было в уничтоженном народе русском, чьими страданиями очищена земля проклятой “зоны”.
Позже из разговора с отцом Кириллом, настоятелем храма, я не без удивления узнал, что в 30-е годы русская Православная церковь едва не перестала существовать, утратив апостольскую преемственность. Конечно, самым лютым гонениям церковь подвергалась с первых дней революции. Потом были еще “кампании” — изъятие церковных ценностей, расколы, “обновленчество”, сплошные “посадки”. Но в конце тридцатых речь пошла о физическом выбивании священства как такового. Был правительственный лозунг: что к 1 мая 1937-го имя Бога будет забыто на территории СССР. В результате, церковь потерпела такой урон, что порой на свободе оставалось не более 4 епископов. А чтобы рукоположить нового епископа, нужно не менее трех. Если бы еще двух в этот момент посадили бы, то угроза утраты апостольской преемственности — традиции передачи веры высшими церковными иерархами непосредственно от первосвященников Руси — была бы совершенно реальна. И тогда ее пришлось бы восстанавливать извне, как в Албанской церкви, где все высшие церковные иерархи были уничтожены. В это трудно поверить, как вообще трудно поверить в то, что творилось в эти годы по всей России и что гулким расстрельным эхом отозвалось в Бутово.
Убитая страна
В Бутово лежат все: люди разных возрастов, разных национальностей и вероисповеданий, разных занятий — от блестящих ученых и богословов до кустарей и подмастерьев. Бывшие сотрудники НКВД здесь соседствуют с трижды раскулаченными и под конец расстрелянными крестьянами. Здесь лежат латышские стрелки — опора Ленина в 1918 году — поголовно истребленные в конце тридцатых и романтики-коммунисты, приехавшие “строить социализм” откуда-нибудь из Германии или ЮАР. Здесь — тысячи бывших “каналармейцев” — воплотивших грандиозный проект соединения Москвы-реки с Волгой и уничтоженных сразу после того, как канал был построен и миллионное население “Дмитлага” стало ненужным стране. Здесь все “бывшие” — бывшие предприниматели, офицеры и вообще, так сказать, “привилегированные классы”. Но здесь и рабочие. Здесь художники. Трудно поверить — одних художников 100 человек! Здесь люди совсем простые и всесторонне одаренные, подлинный цвет России. Скажем, председатель 2-й Государственной Думы Ф.А.Головин, московский генерал-губернатор В.Ф.Джунковский, обладатель семи высших боевых наград генерал Б.И.Столбин, один из первоначальных русских летчиков, учитель прославленного Нестерова Н.Н.Данилевский, духовный композитор Н.Н.Хитрово-Крамской, иконописец граф В.А. Комаровский, митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Серафим Чичагов, который даже на последней тюремной фотографии поражает своею духовной силой, здесь — яркий церковный мыслитель епископ Арсений Жадановский, представители дворянских родов Тучковых, Гагариных, Шаховских, Оболенских, Олсуфьевых, Бибиковых… И еще несметное число людей совсем простых, с фамилиями далеко не литературными, подвернувшимися машине террора в силу самых разных жизненных обстоятельств. Скажем, Петров, Виталий Александрович. Работал вольнонаемным на строительстве канала Москва-Волга, арестован в возрасте 36 лет за то, что в двадцатилетнем возрасте он с другом через китайскую границу пытался бежать в Харбин и оттуда в Америку… Попытка бегства не удалась, знакомый китаец препроводил их через границу обратно. Он женился, стал работать… Мог ли он знать, что через 17 лет его настигнет статья 58-10 (“шпионаж”) и он с приятелем, Николаем Бухваловым, будет осужден и расстрелян в Бутове? Ну разумеется, не мог. Как большинство здесь расстрелянных.
Семья Пресновых из подмосковного села Крылатское в полном составе (6 человек) угодила под расстрел за то, что их дом, да и окрестности на живописном берегу Москва-реки приглянулись немцу Эрнсту Шуле, работавшему в посольстве Германии, и он снял часть дома как дачу.
В Пирочах под Коломной дело было посерьезнее: тут натуральный открылся заговор. Деревня издавна считалась одной из самых богатых в округе. Часть ее жителей уже была “раскулачена” в начале 30-х годов и даже отбыла ссылку. Естественно, настроения к советской власти у крестьян было соответственное. В Коломенский райотдел НКВД вызвали председателя пирочского сельсовета и допросили с “пристрастием”. За два дня допросили пять раз, грозили револьвером. В результате председатель дал-таки показания на десятерых односельчан. Те, в общем-то, и не скрывали своих настроений: “Колхозники — те же крепостные, работают они не на себя, а на дядю, работают помногу, а получать ничего не получают, сидят голодные и холодные” (из допроса крестьянина И.М.Минаева). “Колхозы — это та же барщина…. Крестьяне увидят облегчение только тогда, когда не будет большевиков и советской власти” (из допроса крестьянина Е.В.Симакова). Мгновенно было сляпано дело о контрреволюционной крестьянской группе села Пирочи. Через 20 дней после первых арестов дело слушалось тройкой московского управления НКВД. Всех десятерых ждал расстрел. Приговор был приведен в исполнение уже на следующий день после заседания “тройки”…
А.Ф.Бородина, бывшая монахиня Всехсвятского монастыря, была домработницей в семье врачей, работавших на строительстве канала Москва-Волга. Стала посещать церковь, что не понравилось ее хозяйке. Та написала на нее донос, прося милицию известить ее загодя о принятом решении, чтоб она “заранее могла взять себе сразу другую работницу”. На допросах Бородина призналась, что она человек религиозный, но категорически отрицала контрреволюционную агитацию. Расстреляна в Бутово 14 сентября 1937.
Ошибка наборщика, ставшая хрестоматийным сюжетом литературы и кино, стоила жизни наборщику 1-й образцовой типографии Д.Г.Ларюкову. “В феврале мес. 1937 г. он допустил грубую ошибку, в заводской многотиражке набрал: “очистить Советский Союз от советской нечисти”, вместо “троцкистской нечисти”. Расстрелян в Бутово 25 ноября 1937.
Даже самые высокие чины, самые нужные стране знания не спасали человека.
Расстреляны в Бутово альпинисты, особенно имевшие контакты с иностранными инструкторами.
В том числе: участник Памирского похода 1936 г. Г.Розенцвейг (врач, альпинист). А.Гланцберг, военный инженер 2-го ранга, нач. Школы альпинизма РККА. М.Фриновский, командарм 1-го ранга, зам. наркома внутренних дел. Один из организаторов армейского альпинизма…
Пляска смерти
Художник Роман Семашкевич был арестован накануне персональной выставки, и вместе с ним навсегда исчезли подготовленные к развеске, одетые в рамы картины. Его жена искала их всю жизнь, но не нашла. И сейчас отыскать картину Семашкевича — это большая редкость. Но вот кое-какие записи его, в том числе и письма к жене, остались. В одном он пишет: “На дороге деревня-сказка. Миллион ландшафтов! Дом, люди, и у каждого пара чистых, совершенно прозрачных глаз. (…) Нет слов выразить то, что я вижу. Выжал краски на тарелку (нет палитры). Несчастные, они лежат, ждут воплощения и исчезновения. Я живу. (…) Мы же, художники — рыцари”.
А вот отрывок из автобиографии Александра Древина — его товарища, тоже расстрелянного в Бутово: “Что может быть для художника более необходимым, как чувствовать, что черпаешь силы из двух великих источников: сильная жизнь и сильная природа…”
Да, из пары строк видно — какие рыцари искусства пали под пулями! Но как бы ни жить, что бы ни чувствовать, быть известным художником или оставаться существом совершенно незаметным — не имело никакого значения. Террор 1937-38 годов не оставлял вне возможного обвинения ни одного человека, находящегося на территории СССР. Кроме, пожалуй, товарища Сталина. Вообще, говоря о терроре 30-х годов, пора отказаться от термина “политические репрессии”: он далеко выходил за рамки политики и ему давно нужно подыскать другое определение. Некоторые исследователи говорят о “саморазгоняющейся машине” террора. Действительно, на первых порах в работе НКВД есть, и отчасти утешительные даже, черты машинности. Все-таки машина слушается человека. У нее есть профиль-задание, есть свой КПД, мощность, нормы выработки, результаты работы. Но когда речь не идет больше ни о кубометрах земли, ни о тоннах золота, а только о количестве подписей — “расстрел”, “расстрел”, “расстрел” — тут уже речь идет о зле как таковом. О мировом зле, вырвавшемся из-под контроля — к сожалению, случаются такие вулканические выбросы в человеческой истории.
И если продолжать о Бутовском полигоне — что, мол, там было? — То дать ответ сложно, потому что мест, где смерть с таким азартом отплясывала бы свою адскую пляску, немного. А с другой стороны — и интересного ничего — потому что зло — оно бесплодно. Это творчество — загадка. Гениальность. Самопожертвование. А здесь — что? Барак, куда привозили заключенных? Домик, где ждали своего часу расстрельщики? Рвы. Тринадцать рвов, доверху заполненных, как грязью, мертвыми людьми. Экскаватор. “Ты хорошо роешь, старый крот”, — так, кажется, говорил К.Маркс? В общем, по протяженности, километр рвов. Можно высчитать объем, и количество трупов, необходимых, чтоб этот объем заполнить. Есть еще какие-то ямы в лесу. Конечно, здесь не 21.000 человек лежит. Про двадцать одну тысячу нам известно. А про всех остальных нет. Немота. Немотство. Прятание документов, оружия, людей — всего. Любой правды. А потом все эти “двойки”, “тройки”, обезъянья имитация правосудия и кропотливейшая сверка личности перед расстрелом: точно ли того привезли? “Автозаки” в которые набивали по 50 человек и по дороге подтравливали выхлопным газом, чтоб не вздумали трепыхнуться (выдумал это, видимо И.Д.Берг, показания такого рода были в его деле, но сейчас — исчезли). Или попросту били. Был такой специально обученный гад, у которого профессия была — избивать людей перед казнью, чтобы не вздумали бежать. А то вдруг приговоренный к расстрелу — убежит? Был такой случай на Севере. Так там начальник конвоя на нервной почве пять дней пил, а потом лично перестрелял весь этап — 1110 человек. Расстрельщики — особая дьявольская порода: все были офицеры, проверенные еще с Гражданской. Водка у них была всегда. Выпьют — и вперед, орелики! — лично из своего нагана в затылок…
В Бутово их работало четверо. Но вот, скажем, 28 февраля 38 года на полигоне расстреляли 562 человека. Нелегко представить, чтобы каждый так вот, “в затылок” убил больше 140 человек. Значит, либо подмога была, либо автоматы. Сейчас выясняется, что таких вот постоянных расстрельщиков на всю Москву было всего 12 человек. Все они не дожили, собственно, до старости. В основном спились. Один повесился. Один сошел с ума. И только один — ничего. Отработал, вышел на пенсию. Вид имел сельского учителя, почти добродушный: очки, усики… Он расстреливал в знаменитом “гараже НКВД” в Варсонофьевском переулке д.7, с 1918 года. Легендарная была личность — латыш Магго. Говорят, за годы работы лично расстрелял 10.000 человек. Впрочем, цифры такая вещь — в конечном счете они перестают и убеждать, и пугать даже. А вот что произвело на меня впечатление — это одно клеймо иконы, посвященной новомученикам: оно как раз о Бутово. Там красноармейцы в буденовках, на удивление похожие на чертей, тащат невинных людей к расщелинам земли… Но икона на то и икона, что на ней свет всегда побеждает тьму. В иконе ведь человек черпает надежду. Веру. Любовь наконец. Любовь к жизни, к ближнему своему…
Воскресение
Сейчас в бывшей разведшколе КГБ в Дрожжино открыта воскресная школа, где работает небольшой центр по увековечиванию памяти всех расстреляных в бутовской “зоне” людей. Издано шесть книг памяти, где о каждом из 21.000 расстрелянных здесь сообщены по возможности полные сведения, собранные в результате многолетней архивной работы. Заправляет всем этим о.Кирилл, когда-то приехавший в Бутово молодым геологом — взглянуть, где похоронен его дед, священник Владимир Амбарцумов — а в результате сам ставший настоятелем храма. И, в общем, деятельность всех причастных к Бутову людей, будь то архивное сидение Лидии Алексеевны Головковой или обобщающая огромный массив собранных по Бутову материалов “компьютерная мастерская” Александра Назарикова — оказались так или иначе связаны с церковью. Потому что без церкви, без веры в жизнь после смерти, без разделения добра и зла, веры, что добро в конце-концов восторжествует — вся эта работа во многом бессмысленна. Потому что тогда и книги эти, и сайт в интернете будут просто огромным реестром мертвых людей.
Лидия Алексеевна — автор очень интересных статей по Бутово — бывший художник. За разговором я спросил, как получилось так, что она оставила любимое прежде дело и стала архивариусом, сотрудником богословского института и какой вообще в ее работе смысл — исторический или религиозный?
Она задумалась.
— А помните был философ — Николай Федоров? У него странная была идея-фикс: добиться человеческими силами воскресения мертвых. Во плоти. И я читая его, все думал: какой же это ужас получится… А теперь смотрю на Сашу Назарикова, слушаю, как он о митрополите Серафиме Чичагове, как о живом рассказывает, и фотографии его показывает — вот он еще в армии, а вот уже сменил мундир на церковное облаченье… И хочет, чтоб я им проникся, полюбил его — и в величии земной славы, и лишенного всего, в бутырской тюрьме, но несломленного — и понимаю, что вот это и есть человеческое воскрешение — по-федоровски.
А церковь молится и о другом еще воскресении. Воскресении к свету душ заблудших, и погибающих, искушенных злом. Воскресении к жизни в людях, в их памяти — душ сильных и светлых, испытанных злом и даже истерзанных — но не сломленных — святых душ. Без этого мрак не рассеивается над полигоном. Ландшафт не просветляется.









 Записи
Записи


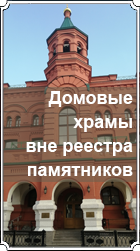


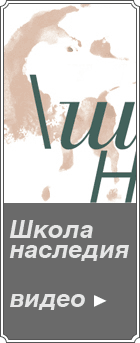



7 комментариев