Стойло Пегаса
Александр Можаев
К северу от Рождественского бульвара лежит вполне себе былинный край — заколдованная череда Сретенских переулков, о которых поэт Рейн говорил: «А Печатников, Колокольников – как печальные алкоголики»… То, что переулки заколдованы, несомненно хотя бы потому, что в них не то, что черт, а и опытный краевед ногу сломит. Несмотря на то, что их архитектурный облик довольно-таки прост и относительно единообразен, невыразительным его никак не назовешь. Но при этом, сколько раз не обходи дозором здешние края, все равно трудно понять, в каком месте ты сейчас находишься. Лично я далеко не первый год путешествую этими переулками, а до сих пор плохо отличаю Сергиевский от Пушкарева.
А вообще, эта страна производит столь чарующее впечатление, что путешествовать по ней можно хоть целую вечность. Так что воспевание просторов Сретенской горы – тема в принципе необъятная. Однако с тех пор, как у меня объявился провожатый по имени Олег Бурьян, появилась некоторая ясность хотя бы относительно юго-восточной оконечности заколдованного царства. Бывалый художник Бурьян был в 1970-80е годы хорошо известен на Сретенке, служившей прибежищем интеллектуальной оппозиции. Но смотр мемориальных мест он предложил начать издалека, от нависающего над Сретенским бульваром домом страхового общества «Россия». Олегова дружба со Сретенкой начиналась как раз отсюда.
— Зимой 1980-го нас с друзьями переклинило протестовать против Афганистана. Мы забрались на угловую башню «России», где тогда еще оставался старый часовой колокол и устроили перезвон. Прибыла милиция, кричат «Слазь оттудова», а слезть я уже не могу, потому что товарищ, через чью мастерскую мы выходили на крышу, нарезался и дверь не открывает. Тогда они пригнали пожарную машину и поднялся к нам майор по лестнице. Двоих сняли, а я сижу, объясняю, что высоты боюсь очень, без стакана слезть никак не получится. Он крикнул вниз и через минуту приполз наверх капитан, принес бутылку. Сели мы с ними на крыше, они и говорят: «Сынок, какая политика, ты ж с тюрьмы век не вылезешь!» В общем, сошлись на мелком хулиганстве и я две недели с такими же раздолбаями у памятника Крупской снег чистил. Один как-то поставил лестницу, залез ей на шею да и уснул. Его не заметили и ушли вместе с лестницей. Только утром сняли, приморозился накрепко. Вот примерно с тех пор и началась моя карьера сретенского дворника.
Ведь дворник – это высокое мастерство, школа. Меня ломиком работать учил профессионал, театровед из Израиля. Да, тут публика была самая разная, но большей частью богема, цвет творческой интеллигенции со всего Союза. Были и киргизы-графики и оперные певцы из Осетии, и другие очарованные Москвой некоренные романтики. Жили в дворницких потому, что так по лимиту квартиру получить было проще. Заведовал всеми Александр Сергеевич Никитин, техник-смотритель с 1936 года, он был нашим Морозовым, истинным покровителем муз. Под его началом я скоро стал кочегаром в котельной, а это более высокая социальная ступень. Хотя и создает большую предрасположенность к алкоголизму, но зато с апреля до октября сплошное свободное время.
На первом этаже мало изменившегося дома 21 в Печатниковом переулке жил и сам Бурьян. Напротив его окон — разрыв между домами, по утрам сквозь него било солнце, прямо в окошки дворницкой комнаты. «И с первыми лучами открывается пивная в соседней арке, и в тот же момент на подоконнике уже сидит какая-нибудь гадина с трехлитровой банкой, воняет луком и рассказывает анекдоты. А я угощусь, одену тапочки — и черным ходом на работу».
Его котельная была прямо позади дома, она и сейчас там, называется «ГК № 112». «Это, — говорит, — был истинный храм искусства, в нашей котельной трудились сплошные художники. А в соседнем дворе стоит 114-я, так она всегда была оплотом литераторов». А вот заветной пивной уже нет, несколько лет назад этот дом снесли и отстроили заново. Рисунок фасада прежний, но нет уже той изящной растрепанности линий, нет самой жизни – всего лишь холодная офисная коробка. А в былые времена эту неприметную пивную подворотню неофициально называли «Татарской» — на Сретенке обитала большая диаспора. Эта точка была частью Великого пивного пути, в который также входили «Яма» на Дмитровке, поильник в Большом (а в ту пору – Больном) Головине переулке и «Ловушка» на Цветном (там не было туалета, и отлить все бегали в соседний подъезд, где в засаде сидели дружинники).
«А как же «Сосиски» на Самотеке?» — спрашиваю я. «Не, это другая история — в «Сосиски» ходили с портвейном, а здесь исключительно по пиву».
Вход в татарскую арку отмечал геральдический знак в виде сваренной из прутьев пивной кружки, украшенной мигающими огоньками. Сначала сгорели лампочки, потом иссяк розлив и появились двадцатикопеечные автопоилки и приносимые в карманах молочные пакеты вместо кружек. Здесь тоже хватало разной богемы – в теремке, стоявшем на крыше дома жил полоумный поэт, исписавший пол-Москвы странным четверостишием «Рожайте детей в январе». В соседнем доме проживал Владимир Орлов, автор знаменитой тогда книги «Альтист Данилов», самый модный клиент заведения. А прямо над поилкой жил странно погибший Витя Пупок, один из последних героев старой Сретенки. Это была какая-то странная фрейдистская драма — он всю жизнь прожил вдвоем с мамою, вместе спивались и даже спали в одной кровати. Привязанность была столь глубокая, что после того, как Витину матушку на Сретенке сбила машина, он протянул всего неделю. Взял и выпал из окна, ровно на ту пивную, которая его погубила.
Для этих замечательных людей пиво было важным, но лишь дополнительным стимулятором к духовно-творческому общению. Ибо искусство проникало во все сферы Сретенского быта, здесь даже участковый искренне гордился тем, что однажды стоял в оцеплении Глазуновской выставки. А стало быть и переулки, и дворы расцветали отрадными приметами подлинного народного творчества. Вот, например, характерная деталь из более ранних времен: над входом в подъезд дома 22 в Печатниковом – довольно неожиданный барельеф с профилем вождя трудящихся. Местные жители рассказывают вполне правдоподобную версию его происхождения. Дескать, в 1924 шел ремонт дома, по ходу которого рабочих постигла страшная весть о кончине. Руководствуясь творческим порывом, они приколотили на стенку это скромное изваяние, которое таким образом является первым московским памятником Ленину.
А к дому 19 примыкает одна из последних оставшихся мастерских, хозяин которой окопался на славу: прирезал к дому скверик, в котором летом разводит кур, пристроил террасу, говорят, внутри навертел даже нечто вроде бассейна. А раньше у него вместо курей было иное хобби: коллекционировал ржавые черные «Волги», наваливал их позади двора в несколько рядов штабелями. Но самым колоритным был двор дома 12, на месте которого теперь озаборенный пустырь. Продолжает свидетель Бурьян:
— В этом доме жил большой человек, парикмахер Большого театра, и все почему-то думали, что он тут клад спрятал. А мы во дворе устроили такую собственную летнюю веранду среди роз, навесик с гамаком, летом можно было спать на улице. Потом подвели туда свет, телефон, потом в кустах как-то тыквы сами выросли, и еще завели козочку — ходили с ней гулять на бульвар, как с собачкой. Жила она на черной лестнице, и там же с ней жила лошадь. Она была на убой приготовлена, детишки ее украли и привели к нам, и она тут жила, ее часто телевидение снимать приезжало, даже заграничное.
Теперь здесь почти никого не осталось. Олег перебрался в Марьину рощу, лошадь живет в Хотьково, возит туристов от станции до Абрамцевского музея, Толя Колдышев помер, а всех остальных, включая многочисленных татар, первую московскую женщину-таксиста бабу Зою по кличке Оставь Допить, и известную Галю Пенсию, еще со старых времен содержавшую в 26-м доме последнюю в округе воровскую малину, отселили в Митино. Возможно, что где-то там их потомки и теперь дружно колдыряют вместе, только уже не дворами, а подъездами.










 Записи
Записи


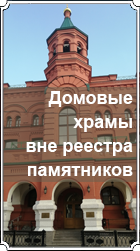


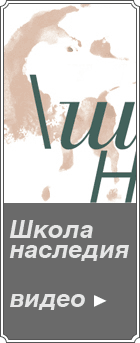



7 комментариев