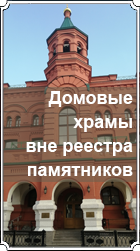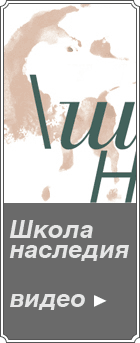Неудачное свидание
Александр Кабаков, Евгения Пищикова
Впервые опубликовано в журнале «Новый очевидец».
Выцветшее к сентябрю небо раскинуло высокую пустоту над Пушкинской площадью. В белесой этой пустоте плывет девушка, известная всей Москве под именем Надя, — плывет, стоя каменными босыми ногами на крыше ротонды, что над углом дома, где «Армения». Те, кто назначает свидания на этом углу, так и называют дом — «Дом под Надей». Свидания назначаются либо там, либо у ног зеленого с белым — от времени и птиц — Пушкина, стоящего спиной к бульвару, лицом к навеки огороженной площади на месте бывшего монастыря.
Здесь, под задумчивым взглядом поэта, посреди улицы Горького, Горький-стрит, Брода, я останавливаюсь. Здесь я выбираю программу и маршрут для дальнейшей ритуальной прогулки — что еще можно стоящего сделать в жизни, как не пройти в сотый раз по этой стороне любимой и неминуемой улицы вниз, к Охотному и Моховой, недавно ставшей проспектом Маркса. Чтобы не было мучительно больно и обидно за бесцельно… Ну, и так далее.
Вот за такие шуточки и вылетишь, того гляди, из школы, не посмотрят, что десятый класс и главный претендент на золотую медаль. Комсомольский выговор уже есть — за суженные внизу до шестнадцати сантиметров брюки и покрашенную в домашних условиях в красный цвет рубашку, надетую после этого, естественно, расстегнутой до пупа и с поднятым воротом. Теперь еще пошучу при каком-нибудь активисте… Ладно, черт с ними. Так куда же кости-то бросить? Можно, конечно, не раздумывая долго и нащупав в кармане накопившуюся понемногу тридцатку, перейти мостовую от «Известий» и кинотеатра «Центральный» к двухэтажному книжному магазину, по Тверской и улице Горького да свернуть в «Пивной зал №1», благо по росту уже давно принимают за совершеннолетнего.
Там красота, в этой самой центровой из московских пивных! Там в первой маленькой комнате есть окно, ведущее в тайную глубь, и из этого окна за трешку могут выдать рюмку «Московской» с бутербродом, устроенным из двух шпротин и хлеба «Рижский». Холодная водка, тягучая, как ртуть, упадет в желудок, преодолевая спазму отторжения, и золотое шпротовое масло, если не поберечься, обязательно капнет на узкие штаны… А можно пройти во вторую, большую комнату, где стоят застеленные белыми скатертями квадратные столы и плюшевые стулья вокруг них, где подают пиво в граненых неподъемных кружках с непонятным образом обгрызенными краями, а к пиву официантки в крахмальных кокошниках и мокрых фартуках приносят блюдечки с нащипанной воблой, моченым горохом и черными квадратными сухариками, облепленными крупной солью…
А можно и вовсе не ходить в пивную, свернуть за угол, на бульвар, в шашлычную «Эльбрус», где студенты Литинститута, немногим старшие, чем я, уже выясняют, кто из них гений, а кто злодейство, и выяснение это всегда кончается дракой, где к карскому за двенадцать рублей можно взять графинчик одесского коньяку за семь и тоже неплохо провести часок, совсем как эти, запросто поминающие Евтушенко и Гладилина…
Нет, не пойду.
Что-то подталкивает меня туда, вниз по этой, прогулочной стороне Горького. Никто не ждет меня там, но почему-то у меня странное чувство, будто назначена встреча, будто разминусь я с кем-то — или с чем-то? — если не двинусь сейчас же вниз.
Мимо ВТО, где, если потолкаться у входа, можно встретить любого знаменитого актера, даже самого Казакова с чуть поредевшим со времен «Убийства на улице Данте» коком.
Мимо «Елисеевского», в витринах которого высится изобилие пыльных языковых колбас из картона, яблок из папье-маше и пустых красных, с тисненым золотым оленем коробок от шоколадного ассорти.
Мимо совсем нового магазина «Синтетика», где продается ткань лавсан рулонами и иногда выбрасывают плащи болонья братского венгерского производства.
Мимо гостиницы «Астория» с буйным и беспутным рестораном в первом этаже, где по вечерам гуляют обезумевшие командированные снабженцы с северов и из Зеравшана.
Мимо «Академкниги» в большом сумрачном доме, из двора которого иногда выезжает двухцветная «Победа», и на ее заднем сиденье просматривается лохматый седой человек с вызывающим профилем и трубкой в зубах, имя которого родители произносят, понижая голос и со значением, — Эренбург.
Мимо памятника князю Юрию Долгорукому, к странному верховому животному которого за десять лет все уже привыкли, только мальчишки похабничают, обращая внимание одноклассниц на половые принадлежности коня.
Мимо «Арагви» и кафе при нем, где центровые молодые люди завтракают свежайшей яичницей и натуральным кофе.
Мимо тесного и пахучего магазина «Сыр», возле дверей которого толкутся, гомоня о своем, лемешистки, невменяемые поклонницы великого тенора и красавца.
Мимо булочной, мимо «Диеты», мимо «Вин», где есть шампанское в разлив, вниз, вниз, к «Подаркам», в которых, поднимаясь по внутренней лестнице, обязательно обнаруживаешь идущего рядом какого-то оскаленного урода и тут же понимаешь, что это ты сам в зеркале, которым полностью облицована стена…
А навстречу идет и идет московский и приезжий народ: вышедшая показаться публике дамочка в шляпке-менингитке из черной соломки и летнем габардиновом пальто; молодая профессорская жена или тайная подруга директора треста; серьезный мужчина, спешащий к окончанию обеденного перерыва занять свое место за столом в Госплане, гигантская коробка которого поднимается в истоке улицы Горького; солидный мужчина в легком сером костюме из дефицитной и дорогой ткани «ударник», с толстым портфелем желтой свиной кожи в руке, а на портфеле — мельхиоровый ромбик с подарочной гравировкой; приезжая тетка в плюшевой жакетке с узкой донельзя талией, с двумя неподъемными клеенчатыми сумками, ручки которых связаны тряпкой, чтобы можно было перекинуть через плечо, крепко пахнущий «Шипром» офицер в суровом мундире со стоячим воротником и золотыми погонами, поддерживающий под локоток гордую спутницу в черно-бурой горжетке на полных плечах, и обязательно поддерживающий левой рукой, чтобы в случае чего вовремя отдать честь одному из лютующих в центре комендантских офицерских патрулей; и, конечно, мой брат стиляга в самостроенных брюках непроходимой для ног ужины, в заветном, доставшемся по фантастическому случаю гэдээровском клетчатом пиджаке, почти неотличимом от настоящего штатского, такой же старшеклассник или студент младшего курса, обалдевший от улицы Горького, от своего потрясного, колоссального, железного, мирового вида, от возможности какой-нибудь потрясной, колоссальной, железной, мировой встречи, от высокого пустого неба, от остывающего осеннего солнца, от тех невероятных прогулок, которые уже приготовила нам улица Горького, да пребудет она вовеки.
Куда же иду я по той улице, кого жду встретить на ней? Бог меня знает. Я спускаюсь до самого конца, точнее, начала, стою, оглядываясь по сторонам, откровенно глазея на людей, словно боясь пропустить кого-то… Нет, нет никого. Сколько же я времени болтаюсь здесь, на этом Броде, Стометровке, Горький-стрит? Лет сорок пять, наверное. И все эти годы есть чувство, что надо бы пройтись еще раз, чтобы не разминуться…
В большом городе, который называется Москва, есть большая улица, которая называется Тверской. Это главная улица страны. И если повернуться спиной к Кремлю и идти вон по Тверской, то можно совершить главную московскую прогулку.
А если одну минуту стоять на этой улице неподвижно и заниматься арифметикой, то мимо тебя пройдет 48 человек и проедет 240 машин. Ни эти люди, ни эти машины тебе совершенно не нужны. Вероятно, тебе нужна эта улица. Предполагается, что она может дать ответ на некоторые вопросы.
Вот, например, архиважный вопрос: «Что можно подарить человеку, у которого все есть?» И тут же вы видите солидный магазин «Подарки» по адресу: Тверская, дом 4. И все проясняется. Таким людям нужно дарить следующие предметы: пресс-папье «Модель буровой установки позалоч.», хрустальное яйцо и фарфоровую группу «Каминную». Это не к тому, что группа размером с камин, это чтобы ставить ее на каминную полку.
Насчет буровой установки все понятно; не то с яйцом. Оно как раз очень большое и стоит 288 тысяч рублей. Если бы мамонты летали, они несли бы именно такие яйца, размером в полмагазина и прозрачные, как сама вечная мерзлота. Яйцо покоится на трех мельхиоровых ножках и предназначено, согласно инструкции, «для охлаждения одной или нескольких бутылок шампанского».
Тщусь представить себе лирическую сцену, в развитии которой был бы уместен этот ужасный разверстый предмет.
Фарфоровые группы тоже очень хороши. Они как будто приехали к нам из ГДР, в подполковничьих чемоданах, вместе с сервизами «Мадонна». Только пока ехали, очень подорожали. Они и точно немецкие, это германский бюргерский юмор. Мальчик как если б невзначай задирает у девочки юбчонку. Ой. У девочки сложное выражение лица. Это как в ресторанах пишут: гарнир сложный. А вот девчушка обороняется от двух гусей. На чумазом личике испуг мешается с лукавым возбуждением. Маленькая Леда и два гадких лебедя. Служанка прикрывает личико фартучком — обозрению доступны лишь румяная щечка да веселый глазик. А плутишка в кадетском мундирчике зашел с тыла и знай рукосуйствует. Что-то здоровое видится в этих каминных фигурках — такая милая фарфоровая нескромность, в духе веселых фильмов. Офисная возбуждалочка.
Значит (возможно), не все есть у людей, у которых все есть?
Чуть пройдешь вниз по улице, и потрясают воображение витрины магазина «Соятозолото» — небольшие аккуратные пещерки с сокровищами. В бархатном гнезде, устроившись ужасно неуютно, стоят прямые и непреклонные мобильные телефоны в золотых и платиновых корпусах. Они прямо-таки торчат из гнезда, противореча самой томной идее драгоценности. Это — телефоны английской фирмы Уеггу. Золотой телефон весит 200 граммов и стоит 19 тысяч евродолларов. Продавцы охотно поясняют, что главный рынок сбыта золотых телефонов — арабский мир, Юго-Восточная Азия и Россия.
Что-то неправильное чудится в этих телефонах; и, по некоторому размышлению, понимаешь — точно, они неправильные.
Вот недавно австриец Петер Эллойсон инкрустировал компьютер одною тысячью бриллиантов. И это ничего не изменило ни в судьбе компьютера, ни в судьбе австрийца.
Уже понятно, что будет называться и считаться компьютерной классикой. Экран толщиной и размером с бумажный листок будет вечен, как вечен лист бумаги — соразмерный человеку уже тысячу лет. Не больше и не меньше. Именно его будут украшать слоновой костью и перламутром. Да хоть чем. Тысяча бриллиантов горят жадным холодным огнем, а экран горит жарким синим пламенем. Что светит ярче? Целый мир вываливается к тебе на стол из этого экрана, так что драгоценность здесь компьютер, а бриллианты — оправа.
А мобильные телефоны все еще в поиске своей совершенной формы. Телефон кажется тем более дорогим, чем он меньше, а предмет из золота — чем он больше. Столкновение философий. В идеале телефон должен исчезнуть. Превратиться в два датчика, вживленные в ухо и десну, с функцией голосового набора.
Я недавно читала прелестный рассказ молодого американского инвалида, в котором идея уничтожения телефона как предмета доводится до логического предела — датчики вживлены в мозг, поэтому телефонный разговор становится формой телепатии. Вызов посылается мыслью, мозговым импульсом, а так как невозможно купировать побочные умственные движения и контролировать эмоциональный фон, светская жизнь меняет свои нормы. Естественным считается антираскланивание:
— Привет, карась недоделанный, и не хотел бы, да приходится тебе звонить.
— Ну здравствуй, здравствуй, гондон, давай по существу.
Тверская давно стала улицей вещей, а не улицей людей. Люди ее посещают, но большинство чувствует себя неловко. На ней всегда жарче, чем где бы то ни было в другом месте — набитая людьми и товарами, она похожа на пустыню, по которой надо брести. Или на телевизионную площадку, залитую беспощадным светом. Любит ли ее кто-нибудь? Я знаю, что ее любит Александр Абрамович Кабаков.
По Тверской улице идут высокие девушки в розовых штанах. Их сопровождают маленькие лысые юноши с эспаньолками. Интересно, для кого растут наши коломбины? Юнцы нынешнего поколения низкорослы, на Тверской вообще высокого мужика и не увидишь… Офицеры по нынешней Тверской не ходят — ходят иногда солдаты и стреляют у магазинных охранников сигареты. Казенный человек не откажет.
Проходят приезжие с детьми. Дети несут флажки из «Макдоналдса». Идут туристы — и опять же, воля ваша, в основном японцы. Я думаю, в августе в Японии не остается ни одного японца – они все разъезжаются по миру. Японцы похожи на хоббитов, потому что маленькие и любознательные. И со своим особым отношением к земле. Мне рассказали, что в японском языке пыль и земля — однокоренные слова.
Земля так драгоценна, что даже ветер в дом заносит не какой-нибудь сор, а ее, родимую. Получается, что пылесос должен называться землесосом… Может быть, они потому так любят посещать чужие земли, что своей не хватает?
Кто еще воскресным деньком да вечерком идет по Тверской? Идет мимо стерильного магазина «Данон», мимо итальянского бутика с говорящим названием «Балдинини», мимо «Дворца Связи», офиса туристической фирмы «Зевс компани»?
Опытный столичный ловелас сказал мне, что ныне на Тверской серьезные люди не знакомятся — там теперь гуляют только приезжие девочки. Они жадные, как молодые лейтенанты семидесятых, — не до денег, а до приключений. Хотят все успеть до отхода поезда. А как успеешь, когда столичные ловеласы тоже не на Тверской живут, а вовсе даже в Бутове квартиры снимают. Вот эти девочки сидят и пьют пиво в летнем кафе возле «Арагви» — красивые, высокие, крепкие. Их не смутишь чугунным жеребчиком из-под Долгорукого, тем более что не очень-то он и страшен. С тех пор как у Исторического музея появилась лошадь Жукова с исполинским крупом сабинянки, которая словно бы раздела маршала и натянула на себя его галифе, так и долгоруковский конь за приличного сошел.
Я знаю, что эта улица много лет привечала праздношатающуюся публику, да вот пришел и этому конец. Сначала на ней «свои» встречались со «своими» — находили друг друга по одежде, двум-трем словам, доступным и желанным лишь определенному кругу питейным и пр. заведениям. Потом эта улица стала местом встречи с Чужими, Иными. Робкие юнцы из предместья приезжали посмотреть, как гуляет столичная золотая молодежь, принимая за таковую молодых командировочных из Саратова-500 и Новосибирска. Потом эта улица стала ничья. Чужие здесь встречаются с чужими, и ни один грамм интереса и теплоты не отапливает Тверскую, которая пышет разве подземным жаром.
Земля горит под ногами у толпы, каковая по привычке думает, что на центральной улице все друг на друга смотрят, друг друга оценивают. Однажды мне сказала знакомая: «В этих штанах я по Тверской идти не могу…» Но, конечно, возможны исключения. Есть один человек, который именно сейчас, сегодня, идет по любимой Тверской улице. Я-то иду по другой, которую все разлюбили.
Они так и не встретились — Александр Кабаков, двигавшийся вниз по улице Горького не то в 1959-м, не то в 1960 году, сейчас уж и не вспомнишь, и Евгения Пищикова, прошедшая вверх по Тверской всего несколько дней назад, но на 45 лет позже. Время непроницаемо, что ж поделаешь…







 Записи
Записи